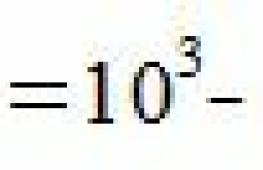Роль снов романе "преступление и наказание". Сон свидригайлова в романе достоевского «преступление и наказание
Рассмотрим образ Свидригайлова Аркадия Ивановича. Этот герой является одним из главных персонажей психологического романа "Преступление и наказание" Ф. М. Достоевского (портрет автора представлен в статье). Федор Михайлович это произведение опубликовал в 1866 году. Оно было напечатано в журнале "Русский вестник". А создавалось это произведение в период с 1865 по 1866 год.
Образ Лужина и Свидригайлова объединяет то, что оба этих героя - моральные Аркадий Иванович олицетворяет собой упадок личности и духовную деградацию, к которым приводит реализация философии Родиона, его взгляда на мир.
Внешняя характеристика Свидригайлова
Рассматривая образ Свидригайлова, опишем сначала его внешние черты. В произведении Аркадию Ивановичу уже более 50 лет, однако он выглядит намного моложе своих лет. Это широкоплечий человек среднего роста, который одевался щегольски и выглядел "осанистым барином". У Аркадия свежее, приятное лицо, борода и волосы еще весьма густые, а его голубые глаза смотрят пристальным, холодным взглядом. Однако Раскольников через некоторое время нашел в этом, казалось бы, миловидном лице что-то страшное и неприятное. Свидригайлов - это дворянин со связями, который привык ставить перед собой цель и любыми способами добиваться ее. Таков образ Свидригайлова при первом знакомстве с этим героем. Однако он на самом деле намного сложнее, в чем вы убедитесь, дочитав до конца эту статью.
Аркадия Ивановича
Продолжая описывать образ Свидригайлова, обратимся к его внутреннему миру. Множество сплетен окружает этого героя, одна хуже другой. В смерти супруги Марфы обвиняет его общество. Свою жену он якобы отравил, а также истязал и, в конечном счете, довел до самоубийства Филиппа, своего слугу, избивал девочку.

Исходящую от этого человека опасность ощущает и Дуня - сестра Родиона, в которую этот дворянин влюблен. Свидригайлов говорит сам о себе, что он лишенный норм и принципов человек, который действует по своему хотению и собственной воле. Он не строит оправдательные теории для сокрытия своих поступков, как Лужин. Аркадий Иванович прямо говорит, что он "развратный и праздный" человек.
Сравнительная характеристика двух героев - Свидригайлова и Раскольникова
Образ Свидригайлова, кратко описанный выше, во многом раскрывается благодаря сопоставлению его с Родионом Раскольниковым. Благодаря способностям, опыту, деньгам Аркадий Иванович имеет уже то, о чем может лишь мечтать Родион, - "независимость от людей и абсолютную свободу". Этот герой смог уже давно переступить через убийство, разврат, обман. Раскольников мог бы позавидовать холодной расчетливости и выдержке Свидригайлова во время преступления, поскольку Аркадий Иванович глупых ошибок не совершает никогда, сентиментальности не поддается. А студент страдает от всего этого. Родион мучается в душе, все свои моральные силы собирает для того, чтобы заставить совесть замолчать. Аркадий Иванович давно уже не ощущал даже намеков на чувство вины и терзания совести. Его не волнуют прошлые грехи, как и грязные поступки, совершенные им недавно. Все это дополняет его образ. Свидригайлов Аркадий Иванович привык жить различными преступлениями, наслаждаться собственными низостями.

Аркадий Иванович переступил уже давно моральные границы, пропасть духовного падения этого героя поистине велика. Единственный его заключается в том, чтобы срывать безжалостно "цветки наслаждения", а затем выкидывать их "в придорожную канаву". Аркадий первым замечает, что с Родионом у него много общего. Однако есть и одно важное отличие - Свидригайлов границы между грехом и моральностью стер, а Родион - нет. У студента вызывает панику тот факт, что зло и добро одинаковы. А для Свидригайлова это жизненная истина.
Положительные стороны Свидригайлова
Изображая его аморальный образ, Достоевский вместе с тем большое значение придает совершенным им хорошим поступкам. Их Свидригайлов совершает даже больше, чем все положительные персонажи вместе взятые. Ведь Аркадий обеспечил будущее не только своим детям, но и сиротам Мармеладовых. Он жаждет устроить судьбу Сони, вытащить ее из этого "водоворота".

Свидригайлов предлагает Раскольникову деньги для того, чтобы тот сбежал в Америку. Он также обещает выплатить долги Катерины Ивановны. Светлая сторона этого героя в отношениях с Дуней также берет верх. Ведь Аркадий Иванович, после того как девушка ему жестко отказала, больше не искал с ней встречи, не причинил Соне зла. "Широкая" натура Свидригайлова наделена странной способностью быть благородной и мерзкой одновременно. В его душе отсутствует четкая граница между злом и добром.
Трагическая раздвоенность внутреннего мира Аркадия Ивановича
Жизненная позиция Аркадия Ивановича объясняется в произведении в некоторой мере трагической раздвоенностью его личности. Он, так же как и Родион, воспринимает болезненно несовершенство этого мира, порядки его, основанные на несправедливости и фальши. Но бунт Свидригайлова, с другой стороны, позитивного заряда не имеет.

Он делает добрые поступки лишь "от скуки", поскольку от него не требует ни ущемлений в своих желаниях, ни страданий материальная помощь людям. Лишь к пустоте, а не к самореализации, приводит героя его теория "сильной личности".
Отвращение к жизни и самоубийство
Аркадий Иванович, несмотря на полное отсутствие в нем нравственных принципов, чувствует отвращение к жизни. Этот герой хочет убежать от этого, он рискует, убивает, после чего сидит в тюрьме, затем соглашается на побег в Америку или полет на воздушном шаре. Однако тяжесть существования, лишенного смысла, давит на плечи, угнетает. Его везде преследует пошлость, "баней с пауками" пугает вечность. Неудивительно поэтому, что Свидригайлов, пресытившись жизнью, решается на самоубийство. Его душа практически мертва, поэтому выстрел из револьвера был логичен.
Чему учит судьба Свидригайлова?
Большую роль в произведении играет образ Свидригайлова. "Преступление и наказание" - роман, который учит нас тому, что вседозволенность, абсолютная свобода приводят не к раскрепощению, как втайне надеялся Родион, а, напротив, к опустошению, ощущению сужения жизненного пространства.

Предупреждением Раскольникову является судьба Аркадия Ивановича. Характеристика образа Свидригайлова показывает, что выбранный им путь ложный. Он ведет лишь к душевной пустоте. Судьба этого героя учит негативным примером истине, которой придерживается Соня, - нужно принять Христа и очиститься для того, чтобы стать свободным по-настоящему.
Сон Свидригайлова в романе Достоевского «Преступление и наказание»
Давно замечено сходство в композиционном построении сна Чарткова в гоголевском «Портрете» и сна Свидригайлова в «Преступлении и наказании» Достоевского, где использован «прием “сновидения в сновидении”», «типичный прием Гоголя». Ср.: «Ему видятся три сна, один кошмарнее другого. Но вот еще что замечательно: “вход” в эти сны и “выход” из них почти стерты, и трудно, подчас невозможно (третий сон), определить, когда Свидригайлов забывается, а когда - приходит в себя».
В пушкинском «Гробовщике» «…сон идет необъявленный, оказывается сном». Так же оказывается сном и сон Пискарева в «Невском проспекте»: «Дремота, воспользовавшись его неподвижностью, уже было начала тихонько одолевать его, уже комната начала исчезать, один только огонь свечи просвечивал сквозь одолевавшие его грезы, как вдруг стук у дверей заставил его вздрогнуть и очнуться». Но очнулся гоголевский художник уже в своем сне, «содержание которого воспринимается как реальность…». Первоначальная граница сна, отделяющего его от яви, не обозначена и в «Портрете», но здесь не отмечены также ни переходы из одного сна в другой, ни разделяющие эти сны внутренние границы.
Сон Чарткова («…с пробуждением во сне - выходом в новое сновидение») является частью его биографии, а поведение во сне определяется его характером, за пределы которого герой не выходит, что соответствует авторскому замыслу о нем. В характере же Чарткова присутствует знаменательная двойственность; суть этого свойства заключается в том, что оно таит в себе возможность движения в ту или в другую сторону. Переходы Чарткова из одного сновидения в другое, метафорически обозначая движение вниз, мотивируют его падение, которое становится сюжетом сна; потеря Чартковым нравственной ориентации маркируется повтором мнимых пробуждений: «Неужели это был сон?..» (3, 90); «Неужели и это был сон?»; «И это был также сон!» (3, 91).
Чартков видит во сне, как старик, чьи «страшные глаза» буквально «вперились в него», вдруг «выпрыгнул из рам» (3, 89), а затем, вытащив мешок с золотом, «начал разворачивать свертки», один из которых, «откатившийся подалее от других», художник «судорожно схватил» (3, 90), но схватил опять же во сне. Ср. далее, после окончательного пробуждения Чарткова: «По мере припоминанья сон этот представлялся в его воображенье так тягостно жив, что он даже стал подозревать, точно ли это был сон и простой бред, не было ли это виденье» (3, 92). Подозрение героя усиливается, когда он наяву завладевает выпавшим из рамок портрета свертком, который выглядит точно так, как сверток, схваченный в самом сновидении: «Ему казалось, что если бы он держал только покрепче сверток, он, верно, остался бы у него в руке и после пробуждения» (3, 92). Соединяя мир сна с миром яви, сверток с червонцами резко проблематизирует границы сновидения.
Если видение «...происходит на границе между сном и бодрствованием» и может быть объяснено «происками нечистой силы», то сон означает переход границы, временную смерть, когда душа странствует «на том свете». Ср.: «Оппозиция яви и сна трактуется в народной традиции в категориях жизни и смерти, “этого”, земного и “иного”, потустороннего, загробного мира». Ситуация сна во сне изображается в «Портрете» как ситуация перехода: необъяснимый сдвиг границы миров кажется Чарткову вероятным и возможным. Между тем вернуться в прежнее состояние, предшествовавшее переходу и допускавшее обратное движение, герою уже не дано; Чартков и после пробуждения продолжает жить в атмосфере сновидческих иллюзий.
Используя гоголевскую форму сна во сне, Достоевский переносит акцент, как и в случае обращения к гоголевскому материалу, на изображение самосознания героя. Сон уподобляется зеркалу, в которое глядится герой, как «…на свое отражение в чужом сознании»; чужим для сновидца становится здесь его собственное сознание. Свидригайлову снится гоголевский сон с существенными для последнего темами и мотивами соблазна и необратимого превращения, но с изменением сюжетной схемы сна: Чартков поддается соблазну, который способствует его падению, Свидригайлова соблазн ужасает, но его падение и необратимое превращение случились до того, как он погрузился в сновидческий морок.
Критик, современник писателя, дал выразительную характеристику снов Раскольникова: «Фантастичность, свойственная сновидениям, схвачена с изумительной яркостию и верностию. Странная, но глубокая связь с действительностью уловлена во всей ее странности». Так, фантастичность раскольниковского сна, предваряющего появление Свидригайлова в романе, странным и глубоким образом связана с последующим сном самого Свидригайлова.
Впав в сонное забытье, Раскольников вновь оказывается в доме и в квартире, где совершил убийство: «И какая там тишина, даже страшно… <…> И все тишина. <…> Проснувшаяся муха вдруг с налета ударилась об стекло и жалобно зажужжала. В самую эту минуту, в углу, между маленьким шкапом и окном, он разглядел как будто висящий на стене салоп. <…> Он подошел потихоньку и догадался, что за салопом как будто кто-то прячется». Он бьет и бьет прячущуюся от него старуху топором по темени, но «…старушонка так вся и колыхалась от хохота. <…> Сердце его стеснилось, ноги не движутся, приросли… Он хотел вскрикнуть и - проснулся» (VI, 213).
Однако новое видение заставляет Раскольникова усомниться, действительно ли он проснулся: «…но странно, сон как будто все еще продолжался: дверь его была отворена настежь, и на пороге стоял совсем незнакомый ему человек и пристально его разглядывал» (VI, 213-214). Явление незнакомца воспринимается Раскольниковым как продолжение напугавших его сновидческих событий: «“Сон это продолжается или нет”, - думал он и чуть-чуть, неприметно опять приподнял ресницы поглядеть: незнакомый стоял на том же месте и продолжал в него вглядываться» (VI, 214). Сомнения Раскольникова будто подтверждаются поразившими его во сне и вновь возникшими наяву впечатлениями: «В комнате была совершенная тишина. <…> Только жужжала и билась какая-то большая муха, ударяясь с налета об стекло. <…> “Неужели это продолжение сна?” - подумалось еще раз Раскольникову. Осторожно и недоверчиво всматривался он в неожиданного гостя» (VI, 214).
Тишина и «жужжащая в обеих комнатах муха» символически соединяют и связывают «сон с явью», а поведение Раскольникова во сне и наяву почти буквально воспроизводит реакцию гоголевского Чарткова на ожившее изображение старика: «У него захолонуло сердце. <…> Чартков силился вскрикнуть и почувствовал, что у него нет голоса, силился пошевельнуться, сделать какое-нибудь движенье - не движутся члены» (3, 89); далее, при новом появлении старика, следует пробуждение во сне, который, оказывается, все еще продолжается: «…вскрикнул и проснулся» (3, 90).
Сон Раскольникова и цитируемое Раскольниковым поведение гоголевского сновидца актуализируют в романе память об изображенном в «Портрете» сне во сне, структуру которого прямо повторит затем сон Свидригайлова, связанный в контексте романа с раскольниковским сном и перекликающийся со сном Чарткова.
Свидригайлов, подобно Чарткову и Раскольникову, пародийным двойником которого он является, видит во сне самого себя, собственное сновидческое изображение. Сновидческие картины и образы провоцируют реакцию на них, запечатленную непосредственно в самом сне, и служат не просто проверкой героя, но особой формой его исповеди. М.М. Бахтин специально подчеркивал, что «…герой Достоевского ни в один миг не совпадает с самим собою» и что «подлинная жизнь личности совершается как бы в точке этого несовпадения человека с самим собою…». Сон Свидригайлова служит своего рода точкой отмеченного несовпадения; сон этот занимает свое место не в биографической истории героя, но в истории нарастающей личностной катастрофы.
Свидригайлов спрашивает Раскольникова, верит ли тот в привидения:
«- В какие привидения?
В обыкновенные привидения, в какие!» (VI, 219).
Характерен здесь эпитет «обыкновенные», когда речь идет о необыкновенном явлении; для Свидригайлова видеть привидения - в порядке вещей:
«- Марфа Петровна посещать изволит, - проговорил он, скривя рот в какую-то странную улыбку.
- - Как это посещать изволит?
- - Да уж три раза приходила.
- - Наяву?
- - Совершенно. Все три раза наяву» (VI, 219).
Первый раз, в день после ее похорон, Марфа Петровна напоминает Свидригайлову, что он забыл «в столовой часы завести», которые «каждую неделю сам заводил» (VI, 219). Второй раз, на станции, когда Свидригайлов собрался в Петербург, она предлагает ему «загадать» на дорогу: «А она мастерица гадать была. Ну, и не прощу же себе, что не загадал!» (VI, 220). В третий раз, уже в Петербурге, где Свидригайлов говорит ей о своем желании жениться: «И хоть бы выбрали-то хорошо, а то ведь, я знаю, - ни ей, ни себе, только добрых людей насмешите» (VI, 220).
Свидригайлову важно убедиться не в том, являются ли привидения (в этом он уже убедился), а в том, что привидения действительно существуют; этим объясняется и адресованный Раскольникову вопрос, и следующий далее аргумент, призванный подействовать на собеседника, советующего сходить к доктору. Пусть «привидения могут являться не иначе как больным», но это означает только, что именно тогда, «когда нарушился нормальный земной порядок в организме, тотчас и начинает сказываться возможность другого мира, и чем больше болен, тем и соприкосновений с другим миром больше, так что когда умрет совсем человек, то прямо и перейдет в другой мир» (VI, 221). Рассуждая таким образом, он представляет себя как человека, вошедшего в непосредственное соприкосновение с другим миром и именно этим отличающегося от нормальных людей.
Логика рассуждений Свидригайлова позволяет понять и его реакцию (когда ему приснится странный и фантастический сон) на сновидческие картины, в которых ему вновь откроется возможность другого мира. В гостинице, где настигает Свидригайлова сновидческий мираж, тоже повторяющийся троекратно, воображение вызывает в его памяти посещения покойной жены: «Ведь вот, Марфа Петровна, вот бы теперь вам и пожаловать, и темно, и место пригодное, и минута оригинальная. А ведь вот именно теперь-то и не придете…» (VI, 390). Не придет, если следовать свидригайловской логике, потому что он сам собрался перейти в другой мир; третье посещение Марфы Петровны не случайно было посещением последним. свидригайлов сон преступление достоевский
Три посещения и три сна - здесь символическая перекличка, подчеркивающая роль трехчленной формулы в организации временной последовательности событий «с выделяемыми началом, серединой и концом». Ср. роль утроения в сказке, где «третье звено всегда будет по “абсолютной величине” превосходить предыдущие…»; выделение третьего звена связано с «предельностью» сказки, когда существенной становится последняя возможность разрешить конфликт. Доказано, что Достоевский возвращает числу «…ту роль, которую оно играло в архаичных, мифопоэтических культурах», причем роль числа 3 «особенно очевидна» в романе Достоевского «во всем том, что связано с повторяемостью сюжетных ходов». Третий ход, будь то третье посещение Марфы Петровны или третий сон, означает последний, то есть завершающий событийный ряд, ставящий этому ряду предел.
Забыв завести часы (время для него остановилось) и отказавшись от предложения загадать (узнать об ожидающей его судьбе), Свидригайлов, собравшись жениться, в итоге действительно выбирает «ни ей, ни себе»; «мастерица гадать» все-таки напророчила, чем кончится его путешествие, которое по абсолютной величине превзойдет все, что этому путешествию предшествовало.
Раскольникова поражает лицо Свидригайлова, в котором читается внутренняя мертвенность: «Это было какое-то странное лицо, похожее как бы на маску...» (VI, 357). Но когда Раскольников спрашивает, мог бы он застрелиться, «лицо его как будто изменилось»: «Сознаюсь в непростительной слабости, но что делать: боюсь смерти и не люблю, когда говорят о ней. Знаете ли, что я мистик отчасти?» (VI, 362). Мистиком (хоть и отчасти) делает его опыт общения с привидениями; такого рода мистический опыт рисует пугающую его самого картину вечности: «…будет там одна комнатка, эдак вроде деревенской бани, закоптелая, а по всем углам пауки, и вот вся вечность. Мне, знаете, в этом роде иногда мерещится» (VI, 221). Образ вечности в виде комнатки с пауками, то есть нечистью, свидетельствует о глубине неверия Свидригайлова «в будущую жизнь» (VI, 221), которая тем не менее пугает его так, что этого не может скрыть даже надетая им на себя маска. Дело в том, что свидригайловская вечность - это не что иное, как небытие, знаком которого и выступают пауки.
Порфирий, испытывая Раскольникова, задает ему вопросы о вере в Бога и в воскресение Лазаря:
«- Буквально веруете?
- - Буквально.
- - Вот как-с… так полюбопытствовал» (VI, 201).
Вопросы Порфирия вызваны рассуждениями Раскольникова о праве «необыкновенного» человека «разрешить своей совести перешагнуть через иные препятствия…» (VI, 199). Подвергая «теорию» Раскольникова проверке вечными истинами, Порфирий подчеркивает своими вопросами теоретический характер его веры.
О значении буквальной веры в воскресение идет разговор и у Раскольникова с Соней, когда он просит прочитать ему про воскресение Лазаря: «Зачем вам? Ведь вы не веруете?.. - прошептала она тихо и как-то задыхаясь» (VI, 250). Существенна у Достоевского именно буквальная (то есть не знающая сомнений) вера в воскресение; только внутреннему зрению буквально верующего может открыться смысл главы, которую просит прочитать герой.
Образ вечности, каким он рисуется Свидригайлову, - это проекция обретенного им и страшащего его мистического опыта, проекция его внутреннего ада; такой проекцией явится и его сон: опыт сновидца совпадет с опытом мистика.
Сны снятся героям Достоевского и Гоголя в разных жизненных ситуациях. Чарткову сон привиделся в кризисный для него момент, когда ему предстоит сделать выбор между судьбой художника «с талантом, пророчившим многое», и судьбой «модного живописца» (3, 85), губящего дарованный ему талант; крах его личности - последствие сделанного им неверного выбора. Свидригайлов, прибыв в Петербург «…и решившись теперь предпринять некоторый… вояж» (VI, 222), как он эвфемистически называет задуманное им самоубийство, в твердости своего решения все-таки не уверен, в чем он признается Раскольникову: «Я, может быть, вместо вояжа-то женюсь; мне невесту сватают» (VI, 224). Объяснение с Дуней означает для него полную катастрофу и неизбежность выбора вместо женитьбы вояжа (в чем он, уже после разговора с Дуней, откровенно признается Соне: «Я, Софья Семеновна, может, в Америку уеду, - сказал Свидригайлов, - и так как мы видимся с вами, вероятно, в последний раз, то я пришел кой-какие распоряжения сделать» - VI, 384), но личностный крах он потерпел до этого определившего его выбор объяснения.
Напомним важнейший для истории Свидригайлова эпизод:
«Так не любишь? - тихо спросил он.
Дуня отрицательно повела головой.
- - И… не можешь?.. Никогда? - с отчаянием прошептал он.
- - Никогда! - прошептала Дуня» (VI, 382).
Ср. в подготовительных материалах к роману: «Полюбить вы, знаете ли вы, можете и можете меня в человека пересоздать» (VII, 202). О такой возможности, навсегда утраченной, думает Свидригайлов в гостинице, когда «давешний образ Дунечки стал возникать пред ним»: «А ведь, пожалуй, и перемолола бы меня как-нибудь…» (VI, 390). Но Дуня никогда не сможет его полюбить и перемолоть своей любовью - и в человека его своей любовью не пересоздаст, что для Свидригайлова, ясно это осознавшего, действительно катастрофа: «Странная улыбка искривила его лицо, жалкая, печальная, слабая улыбка, улыбка отчаяния. <…> Револьвер, отброшенный Дуней и отлетевший к дверям, вдруг попался ему на глаза. Он поднял и осмотрел его. Это был маленький, карманный трехударный револьвер, старого устройства; в нем осталось еще два заряда и один капсюль. Один раз можно было выстрелить. Он подумал, сунул револьвер в карман, взял шляпу и вышел» (VI, 383).
Америка, о которой Свидригайлов говорит Соне, выступает синонимом другого мира, что важно и для символики сна Свидригайлова с его потусторонними ассоциациями. Знаменательно, что подобные ассоциации вызывает и «нумер» в гостинице, «душный и тесный, где-то в самом конце коридора, в углу, под лестницей», «клетушка» (VI, 389), вроде той комнаты с пауками, какая мерещится Свидригайлову, воплощая пугающий его образ вечности - на самом деле образ небытия.
Присущи этой «клетушке» и несомненные признаки небытия: «В комнате было душно, свечка горела тускло, на дворе шумел ветер, где-то в углу скребла мышь, да и во всей комнате будто пахло мышами и чем-то кожаным» (VI, 389). Мыши в гостиничной комнате играют ту же роль хтонических существ, связанных с представлением о небытии, что пауки в картине вечности. Из этой реальной комнаты мышь перебегает в сон Свидригайлова: «…вдруг как бы что-то пробежало под одеялом по руке его и по ноге. <…> он встряхнул одеяло, и вдруг на простыню выскочила мышь. Он бросился ловить ее; но мышь не сбегала с постели, а мелькала зигзагами во все стороны, скользила из-под его пальцев, перебегала по руке и вдруг юркнула под подушку; он сбросил подушку, но в одно мгновение почувствовал, как что-то вскочило ему за пазуху, шоркает по телу, и уже за спиной, под рубашкой. Он нервно задрожал и проснулся» (VI, 390). Будучи нечистым животным, воплощением души умершего, мышь, приснившаяся Свидригайлову и вскочившая ему за пазуху, служит предвестием грядущей беды; просыпаясь во сне и переходя в следующий сон, Свидригайлов неминуемо движется к скорой уже для него смерти.
В комнате пахнет чем-то кожаным - и кожаный этот запах напоминает о падении первых людей, которых Бог одел в «одежды кожаные» (Быт. 3: 21), и о смертности как следствии греха, то есть неповиновения Богу: «…ибо прах ты, и в прах возвратишься» (Быт. 3: 19). Облачаясь в «одежды кожаные», то есть в смертность, ощущаемую как «бессмысленность существования», падший человек, если им овладевает духовное бесчувствие, становится «…неспособен к пробуждению и в конечном счете живет, как сомнамбула». Такую неспособность к пробуждению, обрекающую на сомнамбулическое существование, и демонстрирует Свидригайлов и в качестве мистика, и в качестве сновидца; символом подобного существования и оказывается сон во сне.
Во втором сне Свидригайлову «...вообразился прелестный пейзаж; светлый, теплый, почти жаркий день, праздничный день, Троицын день» и видятся всюду цветы и травы, непременные спутники Троицына дня. Войдя в дом, где «посреди залы» стоит гроб, в котором лежала «девочка, в белом тюлевом платье», он словно из пространства жизни перемещается в пространство смерти: «…улыбка на бледных губах ее была полна какой-то недетской, беспредельной скорби и великой жалобы. Свидригайлов знал эту девочку; ни образа, ни зажженных свечей не было у этого гроба и не слышно было молитв. Эта девочка была самоубийца - утопленница. Ей было только четырнадцать лет, но это было уже разбитое сердце, и оно погубило себя, оскорбленное обидой, ужаснувшею и удивившею это молодое, детское сознание, залившее незаслуженным стыдом ее ангельски чистую душу и вырвавшею последний крик отчаяния, не услышанный, а нагло поруганный в темную ночь, во мраке, в холоде, в сырую оттепель, когда выл ветер…» (VI, 391).
Сновидческая картина отсылает к прошлому Свидригайлова; здесь звучат отголоски слухов, бросающих мрачную тень на репутацию героя, и доносятся голоса тех, кто прямо обвиняет его в совершенных им или в приписанных ему преступлениях.
Лужин передает слух, слышанный им «от покойницы Марфы Петровны», что у Ресслих, близкой знакомой Свидригайлова, жила родственница, глухонемая девочка лет четырнадцати: «Раз она была найдена на чердаке удавившеюся. Присуждено было, что от самоубийства. После обыкновенных процедур тем дело и кончилось, но впоследствии явился, однако, донос, что ребенок был… жестоко оскорблен Свидригайловым. Правда, все это было темно, донос был от другой же немки, отъявленной женщины и не имевшей доверия; наконец, в сущности, и доноса не было, благодаря стараниям и деньгам Марфы Петровны; все ограничилось слухом. Но, однако, этот слух был многознаменателен» (VI, 228).
Раскольников, вспомнив про обвинение Лужина, спрашивает Свидригайлова, действительно ли он был «причиной смерти ребенка»: «Сделайте одолжение, оставьте все эти пошлости в покое, - с отвращением и брюзгливо отговорился Свидригайлов, - если вы так непременно захотите узнать обо всей этой бессмыслице, то я когда-нибудь расскажу вам особо, а теперь…» (VI, 364). Но вскоре уже сам Свидригайлов неожиданно возвращается к задевшей его теме: «Вы эту Ресслих знаете? Вот эту самую Ресслих, у которой я теперь живу, - а? Слышите? Нет, вы что думаете, вот та самая, про которую говорят, что девчонка-то, в воде-то, зимой-то, - ну слышите ли?» (VI, 368). А затем, будто желая смутить Раскольникова, что-то про него заподозрившего, рассказывает про свою женитьбу, состряпанную все той же Ресслих: «…ну что ж, что мне пятьдесят, а той и шестнадцати нет? Кто ж на это смотрит? Ну, а ведь заманчиво, а? Ведь заманчиво, ха-ха!» (VI, 369). И пускается в циничное рассуждение о своей невесте («еще в коротеньком платьице, неразвернувшийся бутончик» - VI, 369) и о своей любви к детям: «Детей я вообще люблю, я очень люблю детей, - захохотал Свидригайлов» (VI, 370).
Слух, о котором идет речь, не получает в романе фактического подтверждения и так и остается многознаменательным слухом (ср.: «Итак: удавилась на чердаке; утопилась зимой; утопилась накануне Троицына дня. Чему верить?»), трансформирующимся, однако, в сновидческую картину, в которой содержится глухой намек на совершенное Свидригайловым насилие («Свидригайлов знал эту девочку…»). В романе, в отличие от подготовительных материалов к нему, действительно нет ни доказательств преступления, ни убедительного развенчания вызванных слухом подозрений, но привидевшийся Свидригайлову образ девочки-утопленницы служит все же косвенным ему обвинением.
Вновь очнувшись во сне, Свидригайлов переходит в свой третий и последний сон с мыслью о самоубийстве: «Чего дожидаться? Выйду сейчас, пойду прямо на Петровский: там где-нибудь выберу большой куст, весь облитый дождем, так что чуть-чуть плечом задеть и миллионы брызг обдадут всю голову…» (VI, 392). Выйдя «со свечой в коридор» и «не находя никого», он «вдруг в темном углу, между старым шкафом и дверью, разглядел какой-то странный предмет, что-то будто бы живое. Он нагнулся со свечой и увидел ребенка - девочку лет пяти, не более, в измокшем, как поломойная тряпка, платьишке, дрожавшую и плакавшую» (VI, 392).
Знаменательно, что девочку, появившуюся в третьем сне, Свидригайлов находит в углу, локусе, связанном со сферой потустороннего. В углу («между маленьким шкапом и окном») прячется и старушонка во сне Раскольникова, в котором испытывает он сильнейшее чувство страха, заставившее его проснуться. Свидригайлова охватывает сходное чувство, когда ему «вдруг показалось», что девочка, которую он уложил в постель и которая «тотчас заснула», на самом деле «не спит и притворяется»: «Да, так и есть: ее губки раздвигаются в улыбку; кончики губок вздрагивают, как бы еще сдерживаясь. Но вот уже она совсем перестала сдерживаться; это уже смех, явный смех; что-то нахальное, вызывающее светится в этом совсем не детском лице; это разврат, это лицо камелии, нахальное лицо продажной камелии из француженок. Вот, уже совсем не таясь, открываются оба глаза: они обводят его огненным и бесстыдным взглядом, они зовут его, смеются… Что-то бесконечно безобразное было в этом смехе, в этих глазах, во всей этой мерзости в лице ребенка. “Как! пятилетняя! - прошептал в настоящем ужасе Свидригайлов, - это… что ж это такое?” Но вот она уже совсем поворачивается к нему всем пылающим личиком, простирает руки… “А, проклятая!” - вскричал в ужасе Свидригайлов, занося над ней руку… Но в ту же минуту проснулся» (VI, 393).
Инверсия ситуации, когда не герой-циник соблазняет девочку, а девочка, обнаруживая черты оборотня, пытается соблазнить его (и девочка эта, согласно логике Свидригайлова, существует - как реальность другого мира), служит признаком перевернутого мира; потому образ пятилетней «камелии» и вызывает у Свидригайлова настоящий ужас, что воплощает в себе этот безобразный образ еще одно (после объяснения с Дуней) и последнее «никогда», говорящее о невозможности для него спасения.
Пробудившись и поправив в револьвере «капсуль», Свидригайлов «долго смотрел» на проснувшихся мух, «наконец свободною рукой начал ловить одну муху», «но не мог поймать» (VI, 393-394). Муха, которую он ловит, «как паук» (ср. его признание Раскольникову: «вреда не делаю, а сижу в углу…» - VI, 368; по углам в рисующейся ему картине вечности сидят пауки), словно перекочевала в гостиничный «нумер» из комнаты и из сна Раскольникова, когда Свидригайлов, явившись Раскольникову, будто «…выходит из сна; и сам он весь точно сон, точно густой, грязно-желтый петербургский туман». В такой «густой туман» попадает он, выйдя на улицу, где ему начинает мерещиться «тот самый куст» (VI, 394), что привиделся во сне. Куст этот, подобно свертку во сне Чарткова, непостижимым образом соединяет сон с явью: «Свидригайлов спустил курок» (VI, 395). Он «…как вышел из сна, так и уходит в сон».
Все происходящее во сне Свидригайлова носит скандально-катастрофический характер. В столь частых у Достоевского сценах скандалов и катастроф персонажи «…на миг оказываются вне обычных условий жизни, как на карнавальной площади или в преисподней, и раскрывается иной - более подлинный - смысл их самих и их отношений друг к другу». Сон выбивает Свидригайлова из привычного для него состояния цинического равнодушия и презрения к дорогим для других ценностям; он оказывается в своем сне, как в преисподней: «Кошемар во всю ночь!» (VI, 393). Во сне открывается подлинный смысл произошедшей с ним катастрофы, связь этой катастрофы с «последним, глубинным существом» его личности.
Существенно, что переходы Свидригайлова из одного сна в другой имеют свою внутреннюю логику: «…в снах есть тема разврата, нарастающая от первого к третьему»; в первом сне, где появляется мышь, тема разврата «дана лишь намеком, лишь ощущением скользкого, противного», во втором сне возникает девочка-утопленница, «жертва разврата», в третьем сне - пятилетняя «девочка», «разврат полностью овладел ею».
Появлению этой развратной «девочки» во сне предшествует раз-врат, которому герой, перед тем, как оказаться в гостинице, предается наяву: «Весь этот вечер до десяти часов он провел по разным трактирам и клоакам, переходя из одного в другой. <…> Свидригайлов поил и Катю, и шарманщика, и песенников, и лакеев, и двух каких-то писаришек. С этими писаришками он связался, собственно, потому, что оба они были с кривыми носами: у одного нос шел криво вправо, а у другого влево. Это поразило Свидригайлова» (VI, 383). Телесные аномалии писаришек не случайно поразили Свидригайлова, обнаружившего до этого болезненный интерес к психическим аномалиям, которые он готов принять за норму. Дело в том, что нормальным он считает перевернутый мир, потусторонняя сущность которого и открывается ему во сне, вызывая чувство ужаса при виде такой кощунственной патологии, какую он не мог себе даже вообразить.
У Гоголя аномальное, предстающее в формах страшного и смешного, служит признаком странного сдвига границы: «…это нечто, разрушающее границы». Если во сне Чарткова сдвигаемая граница персонифицируется в оживающем портретном изображении старика, то во сне Свидригайлова персонификацией разрушенной границы является пятилетняя «камелия», наделенная, как и старик в сновидении Чарткова, инфернальными чертами и тоже причастная к «тому» миру. Ее поведение поражает Свидригайлова, причем поражает неожиданно для него самого, как непостижимая нравственная аномалия, вопиющее и не имеющее аналогов моральное уродство. После такой случившейся с ним катастрофы (ведь «камелия» эта зачем-то появилась именно в его сне, привиделась именно ему) его собственная жизнь утрачивает для него всякий смысл.
С.Г. Бочаров, ссылаясь на А.Л. Бема, специально писавшего о роли «литературных припоминаний» у Достоевского, заметил, что «…творческий анамнезис был его писательским методом». Разбираемый нами пример такого анамнезиса - свидригайловский сон во сне - и подтверждает общее правило, и демонстрирует особенности его конкретной художественной реализации.
Образ пятилетней «камелии», возникший во сне Свидригайлова, глубоко символичен, поскольку воплощает в себе возможный предел человеческого падения; напомним, что сюжет падения - это сюжет сновидения гоголевского Чарткова. Сон Свидригайлова пародирует сон Чарткова в смысле присущего пародии «усиления содержания». Пародируется сама форма гоголевского сна, не просто воспроизведенная Достоевским, но просвечивающая сквозь сон Свидригайлова (сквозь форму этого сна: сон во сне) как его «второй план». Так выявляется и обнажается (в той мере, в какой пародия вспоминает о своем «религиозном происхождении») мистериальная «сущность» самой этой пародируемой формы, позволяющей сочетать (и сочетать каждый раз по-новому) фантастичность сновидческих образов с реализмом сновидческих видений - реализмом, как говорил Достоевский, в высшем смысле.
I
Для Раскольникова наступило странное время: точно туман упал вдруг перед ним и заключил его в безвыходное и тяжелое уединение. Припоминая это время потом, уже долго спустя, он догадывался, что сознание его иногда как бы тускнело и что так продолжалось, с некоторыми промежутками, вплоть до окончательной катастрофы. Он был убежден положительно, что во многом тогда ошибался, например в сроках и времени некоторых происшествий. По крайней мере, припоминая впоследствии и силясь уяснить себе припоминаемое, он многое узнал о себе самом, уже руководясь сведениями, полученными от посторонних. Одно событие он смешивал, например, с другим; другое считал последствием происшествия, существовавшего только в его воображении. Порой овладевала им болезненно-мучительная тревога, перерождавшаяся даже в панический страх. Но он помнил тоже, что бывали минуты, часы и даже, может быть, дни, полные апатии, овладевавшей им, как бы в противоположность прежнему страху, апатии, похожей на болезненно-равнодушное состояние иных умирающих. Вообще же в эти последние дни он и сам как бы старался убежать от ясного и полного понимания своего положения; иные насущные факты, требовавшие немедленного разъяснения, особенно тяготили его; но как рад бы он был освободиться и убежать от иных забот, забвение которых грозило, впрочем, полною и неминуемою гибелью в его положении. Особенно тревожил его Свидригайлов: можно даже было сказать, что он как будто остановился на Свидригайлове. Со времени слишком грозных для него и слишком ясно высказанных слов Свидригайлова, в квартире у Сони, в минуту смерти Катерины Ивановны, как бы нарушилось обыкновенное течение его мыслей. Но, несмотря на то что этот новый факт чрезвычайно его беспокоил, Раскольников как-то не спешил разъяснением дела. Порой, вдруг находя себя где-нибудь в отдаленной и уединенной части города, в каком-нибудь жалком трактире одного, за столом, в размышлении, и едва помня, как он попал сюда, он вспоминал вдруг о Свидригайлове: ему вдруг слишком ясно и тревожно сознавалось, что надо бы, как можно скорее, сговориться с этим человеком и, что возможно, порешить окончательно. Один раз, зайдя куда-то за заставу, он даже вообразил себе, что ждет здесь Свидригайлова и что здесь назначено у них свидание. В другой раз он проснулся пред рассветом где-то на земле, в кустах, и почти не понимал, как забрел сюда. Впрочем, в эти два-три дня после смерти Катерины Ивановны он уже раза два встречался с Свидригайловым, всегда почти в квартире у Сони, куда он заходил как-то без цели, но всегда почти на минуту. Они перекидывались всегда короткими словами и ни разу не заговорили о капитальном пункте, как будто между ними так само собою и условилось, чтобы молчать об этом до времени. Тело Катерины Ивановны еще лежало в гробу. Свидригайлов распоряжался похоронами и хлопотал. Соня тоже была очень занята. В последнюю встречу Свидригайлов объяснил Раскольникову, что с детьми Катерины Ивановны он как-то покончил, и покончил удачно; что у него, благодаря кой-каким связям, отыскались такие лица, с помощью которых можно было поместить всех троих сирот, немедленно, в весьма приличные для них заведения; что отложенные для них деньги тоже многому помогли, так как сирот с капиталом поместить гораздо легче, чем сирот нищих. Сказал он что-то и про Соню, обещал как-нибудь зайти на днях сам к Раскольникову и упомянул, что «желал бы посоветоваться; что очень надо бы поговорить, что есть такие дела...» Разговор этот происходил в сенях, у лестницы. Свидригайлов пристально смотрел в глаза Раскольникову и вдруг, помолчав и понизив голос, спросил: Да что вы, Родион Романыч, такой сам не свой? Право! Слушаете и глядите, а как будто и не понимаете. Вы ободритесь. Вот дайте поговорим: жаль только, что дела много и чужого, и своего... Эх, Родион Романыч, прибавил он вдруг, всем человекам надобно воздуху, воздуху, воздуху-с... Прежде всего! Он вдруг посторонился, чтобы пропустить входившего на лестницу священника и дьячка. Они шли служить панихиду. По распоряжению Свидригайлова, панихиды служились два раза в день, аккуратно. Свидригайлов пошел своей дорогой. Раскольников постоял, подумал и вошел вслед за священником в квартиру Сони. Он стал в дверях. Начиналась служба, тихо, чинно, грустно. В сознании о смерти и в ощущении присутствия смерти всегда для него было что-то тяжелое и мистически ужасное, с самого детства; да и давно уже он не слыхал панихиды. Да и было еще тут что-то другое, слишком ужасное и беспокойное. Он смотрел на детей: все они стояли у гроба, на коленях, Полечка плакала. Сзади них, тихо и как бы робко плача, молилась Соня. «А ведь она в эти дни ни разу на меня не взглянула и слова мне не сказала», подумалось вдруг Раскольникову. Солнце ярко освещало комнату; кадильный дым восходил клубами; священник читал «Упокой, господи». Раскольников отстоял всю службу. Благословляя и прощаясь, священник как-то странно осматривался. После службы Раскольников подошел к Соне. Та вдруг взяла его за обе руки и преклонила к его плечу голову. Этот короткий жест даже поразил Раскольникова недоумением; даже странно было: как? ни малейшего отвращения, ни малейшего омерзения к нему, ни малейшего содрогания в ее руке! Это уж была какая-то бесконечность собственного уничижения. Так, по крайней мере, он это понял. Соня ничего не говорила. Раскольников пожал ей руку и вышел. Ему стало ужасно тяжело. Если б возможно было уйти куда-нибудь в эту минуту и остаться совсем одному, хотя бы на всю жизнь, то он почел бы себя счастливым. Но дело в том, что он в последнее время, хоть и всегда почти был один, никак не мог почувствовать, что он один. Случалось ему уходить за город, выходить на большую дорогу, даже раз он вышел в какую-то рощу; но чем уединеннее было место, тем сильнее он сознавал как будто чье-то близкое и тревожное присутствие, не то чтобы страшное, а как-то уж очень досаждающее, так что поскорее возвращался в город, смешивался с толпой, входил в трактиры, в распивочные, шел на Толкучий, на Сенную. Здесь было уж как будто бы легче и даже уединеннее. В одной харчевне, перед вечером, пели песни: он просидел целый час, слушая, и помнил, что ему даже было очень приятно. Но под конец он вдруг стал опять беспокоен; точно угрызение совести вдруг начало его мучить: «Вот, сижу, песни слушаю, а разве то мне надобно делать!» как будто подумал он. Впрочем, он тут же догадался, что и не это одно его тревожит; было что-то, требующее немедленного разрешения, но чего ни осмыслить, ни словами нельзя было передать. Всё в какой-то клубок сматывалось. «Нет, уж лучше бы какая борьба! Лучше бы опять Порфирий... или Свидригайлов... Поскорей бы опять какой-нибудь вызов, чье-нибудь нападение... Да! да!» думал он. Он вышел из харчевни и бросился чуть не бежать. Мысль о Дуне и матери навела на него вдруг почему-то как бы панический страх. В эту-то ночь, перед утром, он и проснулся в кустах, на Крестовском острове, весь издрогнувший, в лихорадке; он пошел домой и пришел уже ранним утром. После нескольких часов сна лихорадка прошла, но проснулся он уже поздно: было два часа пополудни. Он вспомнил, что в этот день назначены похороны Катерины Ивановны, и обрадовался, что не присутствовал на них. Настасья принесла ему есть; он ел и пил с большим аппетитом, чуть не с жадностью. Голова его была свежее, и он сам спокойнее, чем в эти последние три дня. Он даже подивился, мельком, прежним приливам своего панического страха. Дверь отворилась, и вошел Разумихин. А! ест, стало быть, не болен! сказал Разумихин, взял стул и сел за стол против Раскольникова. Он был встревожен и не старался этого скрыть. Говорил он с видимою досадой, но не торопясь и не возвышая особенно голоса. Можно бы подумать, что в нем засело какое-то особое и даже исключительное намерение. Слушай, начал он решительно, мне там черт с вами со всеми, но по тому, что я вижу теперь, вижу ясно, что ничего не могу понять; пожалуйста, не считай, что я пришел допрашивать. Наплевать! Сам не хочу! Сам теперь всё открывай, все ваши секреты, так я еще и слушать-то, может быть, не стану, плюну и уйду. Я пришел только узнать лично и окончательно: правда ли, во-первых, что ты сумасшедший? Про тебя, видишь ли, существует убеждение (ну, там, где-нибудь), что ты, может быть, сумасшедший или очень к тому наклонен. Признаюсь тебе, я и сам сильно был наклонен поддерживать это мнение, во-первых, судя по твоим глупым и отчасти гнусным поступкам (ничем не объяснимым), а во-вторых, по твоему недавнему поведению с матерью и сестрой. Только изверг и подлец, если не сумасшедший, мог бы так поступить с ними, как ты поступил; а следственно, ты сумасшедший... Ты давно их видел? Сейчас. А ты с тех пор не видал? Где ты шляешься, скажи мне, пожалуйста, я уж к тебе три раза заходил. Мать больна со вчерашнего дня серьезно. Собралась к тебе; Авдотья Романовна стала удерживать; слушать ничего не хочет: «Если он, говорит, болен, если у него ум мешается, кто же ему поможет, как не мать?» Пришли мы сюда все, потому не бросать же нам ее одну. До самых твоих дверей упрашивали успокоиться. Вошли, тебя нет; вот здесь она и сидела. Просидела десять минут, мы над нею стояли, молча. Встала и говорит: «Если он со двора выходит, а стало быть, здоров и мать забыл, значит, неприлично и стыдно матери у порога стоять и ласки, как подачки, выпрашивать». Домой воротилась и слегла; теперь в жару: «Вижу, говорит, для своей у него есть время». Она полагает, что своя-то это Софья Семеновна, твоя невеста, или любовница, уж не знаю. Я пошел было тотчас к Софье Семеновне, потому, брат, я хотел всё разузнать, прихожу, смотрю: гроб стоит, дети плачут. Софья Семеновна траурные платьица им примеряет. Тебя нет. Посмотрел, извинился и вышел, так и Авдотье Романовне донес. Всё, стало быть, это вздор, и нет тут никакой своей , вернее всего, стало быть, сумасшествие. Но вот ты сидишь и вареную говядину жрешь, точно три дня не ел. Оно, положим, и сумасшедшие тоже едят, но хоть ты и слова со мной не сказал, но ты... не сумасшедший! В этом я поклянусь. Прежде всего, не сумасшедший. Итак, черт с вами со всеми, потому что тут какая-то тайна, какой-то секрет; а я над вашими секретами ломать головы не намерен. Так только зашел обругаться, заключил он, вставая, душу отвести, а я знаю, что мне теперь делать! Что же ты теперь хочешь делать? А тебе какое дело, что я теперь хочу делать? Смотри, ты запьешь! Почему... почему ты это узнал? Ну вот еще! Разумихин помолчал с минуту. Ты всегда был очень рассудительный человек и никогда, никогда ты не был сумасшедшим, заметил он вдруг с жаром. Это так: я запью! Прощай! И он двинулся идти. Я о тебе, третьего дня кажется, с сестрой говорил, Разумихин. Обо мне! Да... ты где же ее мог видеть третьего дня? вдруг остановился Разумихин, даже побледнел немного. Можно было угадать, что сердце его медленно и с напряжением застучало в груди. Она сюда приходила, одна, здесь сидела, говорила со мной. Она! Да, она. Что же ты говорил... я хочу сказать, обо мне-то? Я сказал ей, что ты очень хороший, честный и трудолюбивый человек. Что ты ее любишь, я ей не говорил, потому она это сама знает. Сама знает? Ну вот еще! Куда бы я ни отправился, что бы со мной ни случилось, ты бы остался у них провидением. Я, так сказать, передаю их тебе, Разумихин. Говорю это, потому что совершенно знаю, как ты ее любишь, и убежден в чистоте твоего сердца. Знаю тоже, что и она тебя может любить, и даже, может быть, уж и любит. Теперь сам решай, как знаешь лучше, надо иль не надо тебе запивать. Родька... Видишь... Ну... Ах, черт! А ты-то куда хочешь отправиться? Видишь: если всё это секрет, то пусть! Но я... я узнаю секрет... И уверен, что непременно какой-нибудь вздор и страшные пустяки и что ты один всё и затеял. А впрочем, ты отличнейший человек! Отличнейший человек!.. А я именно хотел тебе прибавить, да ты перебил, что ты это очень хорошо давеча рассудил, чтобы тайны и секреты эти не узнавать. Оставь до времени, не беспокойся. Всё в свое время узнаешь, именно тогда, когда надо будет. Вчера мне один человек сказал, что надо воздуху человеку, воздуху, воздуху! Я хочу к нему сходить сейчас и узнать, что он под этим разумеет. Разумихин стоял в задумчивости и в волнении и что-то соображал. «Это политический заговорщик! Наверно! И он накануне какого-нибудь решительного шага это наверно! Иначе быть не может и... и Дуня знает...» подумал он вдруг про себя. Так к тебе ходит Авдотья Романовна, проговорил он, скандируя слова, а ты сам хочешь видеться с человеком, который говорит, что воздуху надо больше, воздуху и... и, стало быть, и это письмо... это тоже что-нибудь из того же, заключил он как бы про себя. Какое письмо? Она письмо одно получила, сегодня, ее очень встревожило. Очень. Слишком уж даже. Я заговорил о тебе просила замолчать. Потом... потом сказала, что может, мы очень скоро расстанемся, потом стала меня за что-то горячо благодарить; потом ушла к себе и заперлась. Она письмо получила? задумчиво переспросил Раскольников. Да, письмо; а ты не знал? Гм. Они оба помолчали. Прощай, Родион. Я, брат... было одно время... а впрочем, прощай, видишь, было одно время... Ну, прощай! Мне тоже пора. Пить не буду. Теперь не надо... врешь! Он торопился; но, уже выходя и уж почти затворив за собою дверь, вдруг отворил ее снова и сказал, глядя куда-то в сторону: Кстати! Помнишь это убийство, ну, вот Порфирий-то: старуху-то? Ну, так знай, что убийца этот отыскался, сознался сам и доказательства все представил. Это один из тех самых работников, красильщики-то, представь себе, помнишь, я их тут еще защищал? Веришь ли, что всю эту сцену драки и смеху на лестнице, с своим товарищем, когда те-то взбирались, дворник и два свидетеля, он нарочно устроил, именно для отводу. Какова хитрость, каково присутствие духа в этаком щенке! Поверить трудно; да сам разъяснил, сам во всем признался! И как я-то влопался! Что ж, по-моему, это только гений притворства и находчивости, гений юридического отвода, а стало быть, нечему особенно удивляться! Разве такие не могут быть? А что он не выдержал характера и сознался, так я ему за это еще больше верю. Правдоподобнее... Но как я-то, я-то тогда влопался! За них на стену лез! Скажи, пожалуйста, откуда ты это узнал и почему тебя это так интересует? с видимым волнением спросил Раскольников. Ну вот еще! Почему меня интересует! Спросил!.. А узнал я от Порфирия, в числе других. Впрочем, от него почти всё и узнал. От Порфирия? От Порфирия. Что же... что же он? испуганно спросил Раскольников. Он это отлично мне разъяснил. Психологически разъяснил, по-своему. Он разъяснил? Сам же тебе и разъяснял? Сам, сам; прощай! Потом еще кой-что расскажу, а теперь дело есть. Там... было одно время, что я подумал... Ну да что; потом!.. Зачем мне теперь напиваться. Ты меня и без вина напоил. Пьян ведь я, Родька! Без вина пьян теперь, ну да прощай; зайду; очень скоро. Он вышел. «Это, это политический заговорщик, это наверно, наверно! окончательно решил про себя Разумихин, медленно спускаясь с лестницы. И сестру втянул; это очень, очень может быть с характером Авдотьи Романовны. Свидания у них пошли... А ведь она тоже мне намекала. По многим ее словам... и словечкам... и намекам, всё это выходит именно так! Да и как иначе объяснить всю эту путаницу? Гм! А я было думал... О господи, что это я было вздумал. Да-с, это было затмение, и я пред ним виноват! Это он тогда у лампы, в коридоре, затмение на меня навел. Тьфу! Какая скверная, грубая, подлая мысль с моей стороны! Молодец Миколка, что признался... Да и прежнее теперь как всё объясняется! Эта болезнь его тогда, его странные все такие поступки, даже и прежде, прежде, еще в университете, какой он был всегда мрачный, угрюмый... Но что же значит теперь это письмо? Тут, пожалуй, что-нибудь тоже есть. От кого это письмо? Я подозреваю... Гм. Нет, это я всё разузнаю». Он вспомнил и сообразил всё о Дунечке, и сердце его замерло. Он сорвался с места и побежал. Раскольников, как только вышел Разумихин, встал, повернулся к окну, толкнулся в угол, в другой, как бы забыв о тесноте своей конуры, и... сел опять на диван. Он весь как бы обновился; опять борьба значит, нашелся исход! «Да, значит, нашелся исход! А то уж слишком всё сперлось и закупорилось, мучительно стало давить, дурман нападал какой-то. С самой сцены с Миколкой у Порфирия начал он задыхаться без выхода, в тесноте. После Миколки, в тот же день, была сцена у Сони; вел и кончил он ее совсем, совсем не так, как бы мог воображать себе прежде... ослабел, значит, мгновенно и радикально! Разом! И ведь согласился же он тогда с Соней, сам согласился, сердцем согласился, что так ему одному с этаким делом на душе не прожить! А Свидригайлов? Свидригайлов загадка... Свидригайлов беспокоит его, правда, но как-то не с той стороны. С Свидригайловым, может быть, еще тоже предстоит борьба. Свидригайлов, может быть, тоже целый исход; но Порфирий дело другое. Итак, Порфирий сам еще и разъяснял Разумихину, психологически ему разъяснял! Опять свою проклятую психологию подводить начал! Порфирий-то? Да чтобы Порфирий поверил хоть на одну минуту, что Миколка виновен, после того, что между ними было тогда, после той сцены, глаз на глаз, до Миколки, на которую нельзя найти правильного толкования, кроме одного? (Раскольникову несколько раз в эти дни мелькалась и вспоминалась клочками вся эта сцена с Порфирием; в целом он бы не мог вынести воспоминания). Были в то время произнесены между ними такие слова, произошли такие движения и жесты, обменялись они такими взглядами, сказано было кой-что таким голосом, доходило до таких пределов, что уж после этого не Миколке (которого Порфирий наизусть с первого слова и жеста угадал), не Миколке было поколебать самую основу его убеждений. А каково! Даже Разумихин начал было подозревать! Сцена в коридоре, у лампы, прошла тогда не даром. Вот он бросился к Порфирию... Но с какой же стати этот-то стал его так надувать? Что у него за цель отводить глаза у Разумихина на Миколку? Ведь он непременно что-то задумал; тут есть намерения, но какие? Правда, с того утра прошло много времени, слишком, слишком много, а о Порфирии не было ни слуху, ни духу. Что ж, это, конечно, хуже...» Раскольников взял фуражку и, задумавшись, пошел из комнаты. Первый день, во всё это время, он чувствовал себя, по крайней мере, в здравом сознании. «Надо кончить с Свидригайловым, думал он, и во что бы то ни стало, как можно скорей: этот тоже, кажется, ждет, чтоб я сам к нему пришел». И в это мгновение такая ненависть поднялась вдруг из его усталого сердца, что, может быть, он бы мог убить кого-нибудь из этих двух: Свидригайлова или Порфирия. По крайней мере, он почувствовал, что если не теперь, то впоследствии он в состоянии это сделать. «Посмотрим, посмотрим», повторял он про себя. Но только что он отворил дверь в сени, как вдруг столкнулся с самим Порфирием. Тот входил к нему. Раскольников остолбенел на одну минуту. Странно, он не очень удивился Порфирию и почти его не испугался. Он только вздрогнул, но быстро, мгновенно приготовился. «Может быть, развязка! Но как же это он подошел тихонько, как кошка, и я ничего не слыхал? Неужели подслушивал?» Не ждали гостя, Родион Романыч, вскричал, смеясь, Порфирий Петрович. Давно завернуть собирался, прохожу, думаю почему не зайти минут на пять проведать. Куда-то собрались? Не задержу. Только вот одну папиросочку, если позволите. Да садитесь, Порфирий Петрович, садитесь, усаживал гостя Раскольников, с таким, по-видимому, довольным и дружеским видом, что, право, сам на себя подивился, если бы мог на себя поглядеть. Последки, подонки выскребывались! Иногда этак человек вытерпит полчаса смертного страху с разбойником, а как приложат ему нож к горлу окончательно, так тут даже и страх пройдет. Он прямо уселся пред Порфирием и, не смигнув, смотрел на него. Порфирий прищурился и начал закуривать папироску. «Ну, говори же, говори же, как будто так и хотело выпрыгнуть из сердца Раскольникова. Ну что же, что же, что же ты не говоришь?»ПРОЧТЕНИЯ
В.Ш. Кривонос
СОН СВИДРИГАЙЛОВА В РОМАНЕ ДОСТОЕВСКОГО «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ»
Давно замечено сходство в композиционном построении сна Чартко-ва в гоголевском «Портрете» и сна Свидригайлова в «Преступлении и наказании» Достоевского, где использован «прием “сновидения в сновидении”», «типичный прием Гоголя»1. Ср.: «Ему видятся три сна, один кошмарнее другого. Но вот еще что замечательно: “вход” в эти сны и “выход” из них почти стерты, и трудно, подчас невозможно (третий сон), определить, когда Свидригайлов забывается, а когда - приходит в себя» .
В пушкинском «Г робовщике» «.. .сон идет необъявленный, оказывается сном»3. Так же оказывается сном и сон Пискарева в «Невском проспекте»: «Дремота, воспользовавшись его неподвижностью, уже было начала тихонько одолевать его, уже комната начала исчезать, один только огонь свечи просвечивал сквозь одолевавшие его грезы, как вдруг стук у дверей заставил его вздрогнуть и очнуться»4. Но очнулся гоголевский художник уже в своем сне, «содержание которого воспринимается как реаль-ность...»5. Первоначальная граница сна, отделяющего его от яви, не обозначена и в «Портрете», но здесь не отмечены также ни переходы из одного сна в другой, ни разделяющие эти сны внутренние границы.
Сон Чарткова («.с пробуждением во сне - выходом в новое снови-дение»6) является частью его биографии, а поведение во сне определяется
его характером, за пределы которого герой не выходит, что соответствует авторскому замыслу о нем. В характере же Чарткова присутствует знаменательная двойственность8; суть этого свойства заключается в том, что оно таит в себе возможность движения в ту или в другую сторону. Переходы Чарткова из одного сновидения в другое, метафорически обозначая движение вниз, мотивируют его падение, которое становится сюжетом сна; потеря Чартковым нравственной ориентации маркируется повтором мнимых пробуждений: «Неужели это был сон?..» (3, 90); «Неужели и это был сон?»; «И это был также сон!» (3, 91).
Чартков видит во сне, как старик, чьи «страшные глаза» буквально «вперились в него», вдруг «выпрыгнул из рам» (3, 89), а затем, вытащив мешок с золотом, «начал разворачивать свертки», один из которых, «откатившийся подалее от других», художник «судорожно схватил» (3, 90), но схватил опять же во сне. Ср. далее, после окончательного пробуждения Чарткова: «По мере припоминанья сон этот представлялся в его воображенье так тягостно жив, что он даже стал подозревать, точно ли это был сон и простой бред, не было ли это виденье» (3, 92). Подозрение героя усиливается, когда он наяву завладевает выпавшим из рамок портрета свертком, который выглядит точно так, как сверток, схваченный в самом сновидении: «Ему казалось, что если бы он держал только покрепче сверток, он, верно, остался бы у него в руке и после пробуждения» (3, 92). Соединяя мир сна с миром яви, сверток с червонцами резко проблематизирует границы сновидения.
Если видение «...происходит на границе между сном и бодрствованием»9 и может быть объяснено «происками нечистой силы»10, то сон означает переход границы, временную смерть, когда душа странствует «на том свете»11. Ср.: «Оппозиция яви и сна трактуется в народной традиции в
загробного мира» . Ситуация сна во сне изображается в «Портрете» как
ситуация перехода: необъяснимый сдвиг границы миров кажется Чарткову вероятным и возможным. Между тем вернуться в прежнее состояние, предшествовавшее переходу и допускавшее обратное движение, герою уже не дано; Чартков и после пробуждения продолжает жить в атмосфере сно-видческих иллюзий.
Используя гоголевскую форму сна во сне, Достоевский переносит
акцент, как и в случае обращения к гоголевскому материалу, на изображе-
ние самосознания героя. Сон уподобляется зеркалу, в которое глядится
герой, как «...на свое отражение в чужом сознании» ; чужим для сновидца становится здесь его собственное сознание. Свидригайлову снится гоголевский сон с существенными для последнего темами и мотивами соблазна и необратимого превращения, но с изменением сюжетной схемы сна: Чарт-ков поддается соблазну, который способствует его падению, Свидригайло-ва соблазн ужасает, но его падение и необратимое превращение случились до того, как он погрузился в сновидческий морок.
Критик, современник писателя, дал выразительную характеристику снов Раскольникова: «Фантастичность, свойственная сновидениям, схвачена с изумительной яркостию и верностию. Странная, но глубокая связь с действительностью уловлена во всей ее странности»15. Так, фантастичность раскольниковского сна, предваряющего появление Свидригайлова в романе, странным и глубоким образом связана с последующим сном самого Свидригайлова.
Впав в сонное забытье, Раскольников вновь оказывается в доме и в квартире, где совершил убийство: «И какая там тишина, даже страшно. <...> И все тишина. <...> Проснувшаяся муха вдруг с налета ударилась об стекло и жалобно зажужжала. В самую эту минуту, в углу, между маленьким шкапом и окном, он разглядел как будто висящий на стене салоп. <.> Он подошел потихоньку и догадался, что за салопом как будто кто-то пря-чется»16. Он бьет и бьет прячущуюся от него старуху топором по темени,
но «.старушонка так вся и колыхалась от хохота. <...> Сердце его стеснилось, ноги не движутся, приросли. Он хотел вскрикнуть и - проснулся» (VI, 213).
Однако новое видение заставляет Раскольникова усомниться, действительно ли он проснулся: «.но странно, сон как будто все еще продолжался: дверь его была отворена настежь, и на пороге стоял совсем незнакомый ему человек и пристально его разглядывал» (VI, 213-214). Явление незнакомца воспринимается Раскольниковым как продолжение напугавших его сновидческих событий: «“Сон это продолжается или нет”, - думал он и чуть-чуть, неприметно опять приподнял ресницы поглядеть: незнакомый стоял на том же месте и продолжал в него вглядываться» (VI, 214). Сомнения Раскольникова будто подтверждаются поразившими его во сне и вновь возникшими наяву впечатлениями: «В комнате была совершенная тишина. <.> Только жужжала и билась какая-то большая муха, ударяясь с налета об стекло. <.> “Неужели это продолжение сна?” - подумалось еще раз Раскольникову. Осторожно и недоверчиво всматривался он в неожиданного гостя» (VI, 214).
Тишина и «жужжащая в обеих комнатах муха» символически соеди-
няют и связывают «сон с явью» , а поведение Раскольникова во сне и наяву почти буквально воспроизводит реакцию гоголевского Чарткова на ожившее изображение старика: «У него захолонуло сердце. <.> Чартков силился вскрикнуть и почувствовал, что у него нет голоса, силился пошевельнуться, сделать какое-нибудь движенье - не движутся члены» (3, 89); далее, при новом появлении старика, следует пробуждение во сне, который, оказывается, все еще продолжается: «.вскрикнул и проснулся» (3, 90).
Сон Раскольникова и цитируемое Раскольниковым поведение гоголевского сновидца актуализируют в романе память об изображенном в «Портрете» сне во сне, структуру которого прямо повторит затем сон
Свидригайлова, связанный в контексте романа с раскольниковским сном и перекликающийся со сном Чарткова.
Свидригайлов, подобно Чарткову и Раскольникову, пародийным двойником которого он является18, видит во сне самого себя, собственное сновидческое изображение19. Сновидческие картины и образы провоцируют реакцию на них, запечатленную непосредственно в самом сне, и служат
20 21 не просто проверкой героя, но особой формой его исповеди. М.М. Бахтин специально подчеркивал, что «.герой Достоевского ни в один миг не совпадает с самим собою»22 и что «подлинная жизнь личности совершает-
ся как бы в точке этого несовпадения человека с самим собою.» . Сон Свидригайлова служит своего рода точкой отмеченного несовпадения; сон этот занимает свое место не в биографической истории героя, но в истории нарастающей личностной катастрофы.
Свидригайлов спрашивает Раскольникова, верит ли тот в привидения:
«- В какие привидения?
В обыкновенные привидения, в какие!» (VI, 219).
Характерен здесь эпитет «обыкновенные», когда речь идет о необыкновенном явлении; для Свидригайлова видеть привидения - в порядке вещей:
«- Марфа Петровна посещать изволит, - проговорил он, скривя рот в какую-то странную улыбку.
Как это посещать изволит?
Да уж три раза приходила. <.>
Совершенно. Все три раза наяву» (VI, 219).
Первый раз, в день после ее похорон, Марфа Петровна напоминает Свидригайлову, что он забыл «в столовой часы завести», которые «каждую неделю сам заводил» (VI, 219). Второй раз, на станции, когда Свидригай-
лов собрался в Петербург, она предлагает ему «загадать» на дорогу: «А она мастерица гадать была. Ну, и не прощу же себе, что не загадал!» (VI, 220). В третий раз, уже в Петербурге, где Свидригайлов говорит ей о своем желании жениться: «И хоть бы выбрали-то хорошо, а то ведь, я знаю, - ни ей, ни себе, только добрых людей насмешите» (VI, 220).
Свидригайлову важно убедиться не в том, являются ли привидения (в этом он уже убедился), а в том, что привидения действительно существуют; этим объясняется и адресованный Раскольникову вопрос, и следующий далее аргумент, призванный подействовать на собеседника, советующего сходить к доктору. Пусть «привидения могут являться не иначе как больным», но это означает только, что именно тогда, «когда нарушился нормальный земной порядок в организме, тотчас и начинает сказываться возможность другого мира, и чем больше болен, тем и соприкосновений с другим миром больше, так что когда умрет совсем человек, то прямо и перейдет в другой мир» (VI, 221). Рассуждая таким образом, он представляет себя как человека, вошедшего в непосредственное соприкосновение с другим миром и именно этим отличающегося от нормальных людей.
Логика рассуждений Свидригайлова позволяет понять и его реакцию (когда ему приснится странный и фантастический сон) на сновидческие картины, в которых ему вновь откроется возможность другого мира. В гостинице, где настигает Свидригайлова сновидческий мираж, тоже повторяющийся троекратно, воображение вызывает в его памяти посещения покойной жены: «Ведь вот, Марфа Петровна, вот бы теперь вам и пожаловать, и темно, и место пригодное, и минута оригинальная. А ведь вот именно теперь-то и не придете.» (VI, 390). Не придет, если следовать свидригайловской логике, потому что он сам собрался перейти в другой мир; третье посещение Марфы Петровны не случайно было посещением последним.
Три посещения и три сна - здесь символическая перекличка, подчеркивающая роль трехчленной формулы в организации временной последовательности событий «с выделяемыми началом, серединой и концом»24. Ср. роль утроения в сказке, где «третье звено всегда будет по “абсолютной
величине” превосходить предыдущие.»25; выделение третьего звена свя-
зано с «предельностью» сказки, когда существенной становится последняя возможность разрешить конфликт. Доказано, что Достоевский возвращает числу «.ту роль, которую оно играло в архаичных, мифопоэтических культурах»27, причем роль числа 3 «особенно очевидна» в романе Достоевского «во всем том, что связано с повторяемостью сюжетных ходов»28. Третий ход, будь то третье посещение Марфы Петровны или третий сон, означает последний, то есть завершающий событийный ряд, ставящий этому ряду предел.
Забыв завести часы (время для него остановилось) и отказавшись от предложения загадать (узнать об ожидающей его судьбе), Свидригайлов, собравшись жениться, в итоге действительно выбирает «ни ей, ни себе»; «мастерица гадать» все-таки напророчила, чем кончится его путешествие, которое по абсолютной величине превзойдет все, что этому путешествию предшествовало.
Раскольникова поражает лицо Свидригайлова, в котором читается внутренняя мертвенность: «Это было какое-то странное лицо, похожее как бы на маску...» (VI, 357). Но когда Раскольников спрашивает, мог бы он застрелиться, «лицо его как будто изменилось»: «Сознаюсь в непростительной слабости, но что делать: боюсь смерти и не люблю, когда говорят о ней. Знаете ли, что я мистик отчасти?» (VI, 362). Мистиком (хоть и отчасти) делает его опыт общения с привидениями; такого рода мистический опыт рисует пугающую его самого картину вечности: «.будет там одна комнатка, эдак вроде деревенской бани, закоптелая, а по всем углам пауки, и вот вся вечность. Мне, знаете, в этом роде иногда мерещится» (VI,
221). Образ вечности в виде комнатки с пауками, то есть нечистью, свидетельствует о глубине неверия Свидригайлова «в будущую жизнь» (VI, 221), которая тем не менее пугает его так, что этого не может скрыть даже надетая им на себя маска. Дело в том, что свидригайловская вечность - это не что иное, как небытие, знаком которого и выступают пауки29.
Порфирий, испытывая Раскольникова, задает ему вопросы о вере в Бога и в воскресение Лазаря:
«- Буквально веруете?
Буквально.
Вот как-с. так полюбопытствовал» (VI, 201).
Вопросы Порфирия вызваны рассуждениями Раскольникова о праве «необыкновенного» человека «разрешить своей совести перешагнуть через иные препятствия.» (VI, 199). Подвергая «теорию» Раскольникова проверке вечными истинами, Порфирий подчеркивает своими вопросами теоретический характер его веры.
О значении буквальной веры в воскресение идет разговор и у Раскольникова с Соней, когда он просит прочитать ему про воскресение Лазаря: «Зачем вам? Ведь вы не веруете?.. - прошептала она тихо и как-то задыхаясь» (VI, 250). Существенна у Достоевского именно буквальная (то есть не знающая сомнений) вера в воскресение; только внутреннему зрению буквально верующего может открыться смысл главы, которую просит прочитать герой.
Образ вечности, каким он рисуется Свидригайлову, - это проекция обретенного им и страшащего его мистического опыта, проекция его внутреннего ада; такой проекцией явится и его сон: опыт сновидца совпадет с опытом мистика.
Сны снятся героям Достоевского и Гоголя в разных жизненных ситуациях. Чарткову сон привиделся в кризисный для него момент, когда ему предстоит сделать выбор между судьбой художника «с талантом, проро-
чившим многое», и судьбой «модного живописца» (3, 85), губящего дарованный ему талант; крах его личности - последствие сделанного им неверного выбора. Свидригайлов, прибыв в Петербург «.и решившись теперь предпринять некоторый. вояж» (VI, 222), как он эвфемистически называет задуманное им самоубийство, в твердости своего решения все-таки не уверен, в чем он признается Раскольникову: «Я, может быть, вместо во-яжа-то женюсь; мне невесту сватают» (VI, 224). Объяснение с Дуней означает для него полную катастрофу и неизбежность выбора вместо женитьбы вояжа (в чем он, уже после разговора с Дуней, откровенно признается Соне: «Я, Софья Семеновна, может, в Америку уеду, - сказал Свидригай-лов, - и так как мы видимся с вами, вероятно, в последний раз, то я пришел кой-какие распоряжения сделать» - VI, 384), но личностный крах он потерпел до этого определившего его выбор объяснения.
Напомним важнейший для истории Свидригайлова эпизод:
«Так не любишь? - тихо спросил он.
Дуня отрицательно повела головой.
И. не можешь?.. Никогда? - с отчаянием прошептал он.
Никогда! - прошептала Дуня» (VI, 382).
Ср. в подготовительных материалах к роману: «Полюбить вы, знаете ли вы, можете и можете меня в человека пересоздать» (VII, 202). О такой возможности, навсегда утраченной, думает Свидригайлов в гостинице, когда «давешний образ Дунечки стал возникать пред ним»: «А ведь, пожалуй, и перемолола бы меня как-нибудь.» (VI, 390). Но Дуня никогда не сможет его полюбить и перемолоть своей любовью - и в человека его своей любовью не пересоздаст, что для Свидригайлова, ясно это осознавшего, действительно катастрофа: «Странная улыбка искривила его лицо, жалкая, печальная, слабая улыбка, улыбка отчаяния. <.> Револьвер, отброшенный Дуней и отлетевший к дверям, вдруг попался ему на глаза. Он поднял и осмотрел его. Это был маленький, карманный трехударный револьвер, ста-
рого устройства; в нем осталось еще два заряда и один капсюль. Один раз можно было выстрелить. Он подумал, сунул револьвер в карман, взял шляпу и вышел» (VI, 383).
Америка, о которой Свидригайлов говорит Соне, выступает синонимом другого мира, что важно и для символики сна Свидригайлова с его потусторонними ассоциациями. Знаменательно, что подобные ассоциации вызывает и «нумер» в гостинице, «душный и тесный, где-то в самом конце коридора, в углу, под лестницей», «клетушка» (VI, 389), вроде той комнаты с пауками, какая мерещится Свидригайлову, воплощая пугающий его образ вечности - на самом деле образ небытия.
Присущи этой «клетушке» и несомненные признаки небытия: «В комнате было душно, свечка горела тускло, на дворе шумел ветер, где-то в углу скребла мышь, да и во всей комнате будто пахло мышами и чем-то кожаным» (VI, 389). Мыши в гостиничной комнате играют ту же роль хто-нических существ, связанных с представлением о небытии30, что пауки в картине вечности. Из этой реальной комнаты мышь перебегает в сон Свидригайлова: «.вдруг как бы что-то пробежало под одеялом по руке его и по ноге. <.> он встряхнул одеяло, и вдруг на простыню выскочила мышь. Он бросился ловить ее; но мышь не сбегала с постели, а мелькала зигзагами во все стороны, скользила из-под его пальцев, перебегала по руке и вдруг юркнула под подушку; он сбросил подушку, но в одно мгновение почувствовал, как что-то вскочило ему за пазуху, шоркает по телу, и уже за спиной, под рубашкой. Он нервно задрожал и проснулся» (VI, 390). Будучи нечистым животным, воплощением души умершего, мышь, приснившаяся Свидригайлову и вскочившая ему за пазуху, служит предвестием грядущей беды31; просыпаясь во сне и переходя в следующий сон, Свидригайлов неминуемо движется к скорой уже для него смерти.
В комнате пахнет чем-то кожаным - и кожаный этот запах напоминает о падении первых людей, которых Бог одел в «одежды кожаные»
(Быт. 3: 21), и о смертности как следствии греха, то есть неповиновения Богу: «.ибо прах ты, и в прах возвратишься» (Быт. 3: 19). Облачаясь в «одежды кожаные», то есть в смертность, ощущаемую как «бессмыслен-
ность существования» , падший человек, если им овладевает духовное бесчувствие, становится «.неспособен к пробуждению и в конечном счете живет, как сомнамбула»33. Такую неспособность к пробуждению, обрекающую на сомнамбулическое существование, и демонстрирует Свидри-гайлов и в качестве мистика, и в качестве сновидца; символом подобного существования и оказывается сон во сне.
Во втором сне Свидригайлову «...вообразился прелестный пейзаж; светлый, теплый, почти жаркий день, праздничный день, Троицын день» и видятся всюду цветы и травы, непременные спутники Троицына дня34. Войдя в дом, где «посреди залы» стоит гроб, в котором лежала «девочка, в белом тюлевом платье», он словно из пространства жизни перемещается в пространство смерти: «.улыбка на бледных губах ее была полна какой-то недетской, беспредельной скорби и великой жалобы. Свидригайлов знал эту девочку; ни образа, ни зажженных свечей не было у этого гроба и не слышно было молитв. Эта девочка была самоубийца - утопленница. Ей было только четырнадцать лет, но это было уже разбитое сердце, и оно погубило себя, оскорбленное обидой, ужаснувшею и удивившею это молодое, детское сознание, залившее незаслуженным стыдом ее ангельски чистую душу и вырвавшею последний крик отчаяния, не услышанный, а нагло поруганный в темную ночь, во мраке, в холоде, в сырую оттепель, когда выл ветер.» (VI, 391).
Сновидческая картина отсылает к прошлому Свидригайлова; здесь звучат отголоски слухов, бросающих мрачную тень на репутацию героя, и доносятся голоса тех, кто прямо обвиняет его в совершенных им или в приписанных ему преступлениях.
Лужин передает слух, слышанный им «от покойницы Марфы Петровны», что у Ресслих, близкой знакомой Свидригайлова, жила родственница, глухонемая девочка лет четырнадцати: «Раз она была найдена на чердаке удавившеюся. Присуждено было, что от самоубийства. После обыкновенных процедур тем дело и кончилось, но впоследствии явился, однако, донос, что ребенок был. жестоко оскорблен Свидригайловым. Правда, все это было темно, донос был от другой же немки, отъявленной женщины и не имевшей доверия; наконец, в сущности, и доноса не было, благодаря стараниям и деньгам Марфы Петровны; все ограничилось слухом. Но, однако, этот слух был многознаменателен» (VI, 228).
Раскольников, вспомнив про обвинение Лужина, спрашивает Свид-ригайлова, действительно ли он был «причиной смерти ребенка»: «Сделайте одолжение, оставьте все эти пошлости в покое, - с отвращением и брюзгливо отговорился Свидригайлов, - если вы так непременно захотите узнать обо всей этой бессмыслице, то я когда-нибудь расскажу вам особо, а теперь.» (VI, 364). Но вскоре уже сам Свидригайлов неожиданно возвращается к задевшей его теме: «Вы эту Ресслих знаете? Вот эту самую Ресслих, у которой я теперь живу, - а? Слышите? Нет, вы что думаете, вот та самая, про которую говорят, что девчонка-то, в воде-то, зимой-то, - ну слышите ли?» (VI, 368). А затем, будто желая смутить Раскольникова, что-то про него заподозрившего, рассказывает про свою женитьбу, состряпанную все той же Ресслих: «.ну что ж, что мне пятьдесят, а той и шестнадцати нет? Кто ж на это смотрит? Ну, а ведь заманчиво, а? Ведь заманчиво, ха-ха!» (VI, 369). И пускается в циничное рассуждение о своей невесте («еще в коротеньком платьице, неразвернувшийся бутончик» - VI, 369) и о своей любви к детям: «Детей я вообще люблю, я очень люблю детей, - захохотал Свидригайлов» (VI, 370).
Слух, о котором идет речь, не получает в романе фактического подтверждения и так и остается многознаменательным слухом (ср.: «Итак:
удавилась на чердаке; утопилась зимой; утопилась накануне Троицына
дня. Чему верить?»), трансформирующимся, однако, в сновидческую картину, в которой содержится глухой намек на совершенное Свидригай-
ловым насилие («Свидригайлов знал эту девочку.»). В романе, в отличие
от подготовительных материалов к нему, действительно нет ни доказательств преступленияЗ7, ни убедительного развенчания вызванных слухом подозрений, но привидевшийся Свидригайлову образ девочки-утопленницы служит все же косвенным ему обвинением.
Вновь очнувшись во сне, Свидригайлов переходит в свой третий и последний сон с мыслью о самоубийстве: «Чего дожидаться? Выйду сейчас, пойду прямо на Петровский: там где-нибудь выберу большой куст, весь облитый дождем, так что чуть-чуть плечом задеть и миллионы брызг обдадут всю голову.» (VI, З92). Выйдя «со свечой в коридор» и «не находя никого», он «вдруг в темном углу, между старым шкафом и дверью, разглядел какой-то странный предмет, что-то будто бы живое. Он нагнулся со свечой и увидел ребенка - девочку лет пяти, не более, в измокшем, как поломойная тряпка, платьишке, дрожавшую и плакавшую» (VI, З92).
Знаменательно, что девочку, появившуюся в третьем сне, Свидри-гайлов находит в углу, локусе, связанном со сферой потустороннегоЗ8. В углу («между маленьким шкапом и окном») прячется и старушонка во сне Раскольникова, в котором испытывает он сильнейшее чувство страха, заставившее его проснутьсяЗ9. Свидригайлова охватывает сходное чувство, когда ему «вдруг показалось», что девочка, которую он уложил в постель и которая «тотчас заснула», на самом деле «не спит и притворяется»: «Да, так и есть: ее губки раздвигаются в улыбку; кончики губок вздрагивают, как бы еще сдерживаясь. Но вот уже она совсем перестала сдерживаться; это уже смех, явный смех; что-то нахальное, вызывающее светится в этом совсем не детском лице; это разврат, это лицо камелии, нахальное лицо продажной камелии из француженок. Вот, уже совсем не таясь, открыва-
ются оба глаза: они обводят его огненным и бесстыдным взглядом, они зовут его, смеются. Что-то бесконечно безобразное было в этом смехе, в этих глазах, во всей этой мерзости в лице ребенка. “Как! пятилетняя! -прошептал в настоящем ужасе Свидригайлов, - это. что ж это такое?” Но вот она уже совсем поворачивается к нему всем пылающим личиком, простирает руки. “А, проклятая!” - вскричал в ужасе Свидригайлов, занося над ней руку. Но в ту же минуту проснулся» (VI, 393).
Инверсия ситуации, когда не герой-циник соблазняет девочку, а девочка, обнаруживая черты оборотня40, пытается соблазнить его (и девочка эта, согласно логике Свидригайлова, существует - как реальность другого мира), служит признаком перевернутого мира41; потому образ пятилетней «камелии» и вызывает у Свидригайлова настоящий ужас, что воплощает в себе этот безобразный образ еще одно (после объяснения с Дуней) и последнее «никогда», говорящее о невозможности для него спасения.
Пробудившись и поправив в револьвере «капсуль», Свидригайлов «долго смотрел» на проснувшихся мух, «наконец свободною рукой начал ловить одну муху», «но не мог поймать» (VI, 393-394). Муха, которую он
ловит, «как паук» (ср. его признание Раскольникову: «вреда не делаю, а сижу в углу.» - VI, 368; по углам в рисующейся ему картине вечности сидят пауки), словно перекочевала в гостиничный «нумер» из комнаты и из сна Раскольникова, когда Свидригайлов, явившись Раскольникову, будто «.выходит из сна; и сам он весь точно сон, точно густой, грязножелтый петербургский туман»43. В такой «густой туман» попадает он, выйдя на улицу, где ему начинает мерещиться «тот самый куст» (VI, 394), что привиделся во сне. Куст этот, подобно свертку во сне Чарткова, непостижимым образом соединяет сон с явью: «Свидригайлов спустил курок» (VI, 395). Он «.как вышел из сна, так и уходит в сон»44.
Все происходящее во сне Свидригайлова носит скандальнокатастрофический характер. В столь частых у Достоевского сценах скан-
далов и катастроф персонажи «.на миг оказываются вне обычных условий жизни, как на карнавальной площади или в преисподней, и раскрывается иной - более подлинный - смысл их самих и их отношений друг к другу»45. Сон выбивает Свидригайлова из привычного для него состояния цинического равнодушия и презрения к дорогим для других ценностям; он оказывается в своем сне, как в преисподней: «Кошемар во всю ночь!» (VI, 393). Во сне открывается подлинный смысл произошедшей с ним катастрофы, связь этой катастрофы с «последним, глубинным существом»46 его личности.
Существенно, что переходы Свидригайлова из одного сна в другой имеют свою внутреннюю логику: «.в снах есть тема разврата, нарастающая от первого к третьему»; в первом сне, где появляется мышь, тема разврата «дана лишь намеком, лишь ощущением скользкого, противного», во втором сне возникает девочка-утопленница, «жертва разврата», в третьем
сне - пятилетняя «девочка», «разврат полностью овладел ею» .
Появлению этой развратной «девочки» во сне предшествует раз-
врат, которому герой, перед тем, как оказаться в гостинице, предается наяву: «Весь этот вечер до десяти часов он провел по разным трактирам и клоакам, переходя из одного в другой. <.> Свидригайлов поил и Катю, и шарманщика, и песенников, и лакеев, и двух каких-то писаришек. С этими писаришками он связался, собственно, потому, что оба они были с кривыми носами: у одного нос шел криво вправо, а у другого влево. Это поразило Свидригайлова» (VI, 383). Телесные аномалии писаришек не случайно поразили Свидригайлова, обнаружившего до этого болезненный интерес к психическим аномалиям, которые он готов принять за норму. Дело в том, что нормальным он считает перевернутый мир, потусторонняя сущность которого и открывается ему во сне, вызывая чувство ужаса при виде такой кощунственной патологии, какую он не мог себе даже вообразить49.
У Гоголя аномальное, предстающее в формах страшного и смешного, служит признаком странного сдвига границы: «.это нечто, разрушающее границы»50. Если во сне Чарткова сдвигаемая граница персонифицируется в оживающем портретном изображении старика51, то во сне Свидригайлова персонификацией разрушенной границы является пятилетняя «камелия», наделенная, как и старик в сновидении Чарткова, инфернальными чертами и тоже причастная к «тому» миру. Ее поведение поражает Свидригайлова, причем поражает неожиданно для него самого, как непостижимая нравственная аномалия, вопиющее и не имеющее аналогов моральное уродство. После такой случившейся с ним катастрофы (ведь «камелия» эта зачем-то появилась именно в его сне, привиделась именно ему) его собственная жизнь утрачивает для него всякий смысл.
С.Г. Бочаров, ссылаясь на А.Л. Бема, специально писавшего о роли «литературных припоминаний» у Достоевского, заметил, что
«.творческий анамнезис был его писательским методом» . Разбираемый нами пример такого анамнезиса - свидригайловский сон во сне - и подтверждает общее правило, и демонстрирует особенности его конкретной художественной реализации.
Образ пятилетней «камелии», возникший во сне Свидригайлова, глубоко символичен, поскольку воплощает в себе возможный предел человеческого падения; напомним, что сюжет падения - это сюжет сновидения гоголевского Чарткова. Сон Свидригайлова пародирует сон Чарткова в смысле присущего пародии «усиления содержания»53. Пародируется сама форма гоголевского сна, не просто воспроизведенная Достоевским, но просвечивающая сквозь сон Свидригайлова (сквозь форму этого сна: сон во сне) как его «второй план»54. Так выявляется и обнажается (в той мере, в какой пародия вспоминает о своем «религиозном происхождении»55) мис-териальная «сущность»56 самой этой пародируемой формы, позволяющей сочетать (и сочетать каждый раз по-новому) фантастичность сновидческих
образов с реализмом сновидческих видений - реализмом, как говорил Достоевский, в высшем смысле.
1 Назиров Р.Г. Творческие принципы Ф.М. Достоевского. Саратов, 1982. С. 145. Образную перекличку снов Чарткова и Свидригайлова отметил, ограничившись примерами без анализа, В.Н. Топоров: Топоров В.Н. О структуре романа Достоевского в связи с архаическими схемами мифологического мышления («Преступление и наказание») // Топоров В.Н. Миф. Ритуал. Символ. Образ: Исследования в области мифопоэтического. М., 1995. С. 254.
2 Карякин Ю.Ф. Достоевский и канун XXI века. М., 1989. С. 157.
3 Бочаров С.Г. О смысле «Гробовщика» // Бочаров С.Г. О художественных мирах. М., 1985. С. 44. Здесь и далее курсив в цитатах принадлежит цитируемым авторам.
4 Гоголь Н.В. Полн. собр. соч.: В 14 т. Т. 3. [М.; Л.], 1938. С. 22. Далее ссылки на это издание приводятся в тексте с указанием тома и страниц арабскими цифрами.
5 Топоров В.Н. Указ. соч. С. 220.
6 Ремизов А.М. Огонь вещей. Сны и предсонье // Ремизов А.М. Огонь вещей. М., 1989. С. 101.
8 См.: АнненковаЕ.И. Гоголь и декабристы. М., 1989. С. 93.
9 Добровольская В.Е. Суеверия, связанные с толкованием сновидений в Ярославской области // Сны и видения в народной культуре. М., 2002. С. 58.
10 Там же. С. 59.
11 Афанасьев А. Поэтические воззрения славян на природу. Т. 3. М., 1994 (репринт издания 1869 г.). С. 196.
12 Толстая С.М. Иномирное пространство сна // Сны и видения в народной культуре. М., 2002. С. 198.
13 См.: БахтинМ.М. Проблемы поэтики Достоевского. С. 55.
14 Бахтин М.М. Достоевский. 1961 г. // Бахтин М.М. Собр. соч. Т. 5. М., 1996. С. 368.
15 Страхов Н.Н. Преступление и наказание. Статья вторая и последняя // Страхов Н.Н. Литературная критика. М., 1984. С. 117.
16 Достоевский Ф.М. Полн. собр. соч.: В 30 т. Т. VI. Л., 1973. С. 213. Далее ссылки на это издание с указанием тома римскими и страниц арабскими цифрами приводятся в тексте.
17 Мережковский Д. Л. Толстой и Достоевский // Мережковский Д. Л. Толстой и Достоевский. Вечные спутники. М., 1995. С. 126.
18 Бахтин М.М. Проблемы поэтики Достоевского. С. 102.
19 См. о ситуации «текст в тексте» и «сон как текст в тексте»: Лотман Ю.М. Текст в тексте // Лотман Ю.М. Избранные статьи: В 3 т. Т. I. Таллинн, 1992. С. 156, 158.
20 Ср.: Бахтин М.М. Проблемы поэтики Достоевского. С. 171.
21 Ср.: Бахтин М.М. К переработке книги о Достоевском // Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. М., 1979. С. 312-313.
22 Бахтин М.М. Проблемы поэтики Достоевского. С. 59.
23 Там же. С. 69.
24 Топоров В.Н. О числовых моделях в архаичных текстах // Структура текста. М., 1980. С. 22.
25 Мелетинский Е.М., Неклюдов С.Ю., Новик Е.С., Сегал Д.М. Проблемы структурного описания волшебной сказки // Структура волшебной сказки. М., 2001. С. 85.
26 Там же. С. 87.
ТопоровВ.Н. О числовых моделях в архаичных текстах. С. 55.
Топоров В.Н. О структуре романа Достоевского в связи с архаическими схемами мифологического мышления («Преступление и наказание»). С. 211.
29 Ср.: «...в образной системе европейского искусства паук - в качестве наиболее типичного, “выдающегося” представителя насекомых - и есть знак, воплощение адовых, бесовских сил, знак небытия» (Карякин Ю.Ф. Указ. соч. С. 450).
30 См. о мыши как о невесте дьявола: Топоров В.Н. Мышь // Мифы народов мира: Эн-
циклопедия: В 2 т. 2-е изд. Т. II. М., 1988. С. 190.
31 Ср.: Гура А.В. Символика животных в славянской народной традиции. М., 1997. С. 403-416.
32 Архимандрит Алипий (Кастальский-Бороздин), архимандрит Исайя (Белов). Догматическое богословие (Курс лекций). Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 1994. С. 243.
33 Клеман О. Истоки. Богословие отцов Древней Церкви: Тексты и комментарии / Пер. с фр. М., 1994. С. 132.
34 См.: КоринфскийА.А. Народная Русь. Смоленск, 1995. С. 260.
35 Корман Э. Зачем горят рукописи. Иерусалим, 2004. С. 93.
36 Ср.: «О хозяйке говорит, что дочь изнасильничали и утопили, но кто, не говорит, и
потом уж объясняется, что это он» (VII, 162).
развенчано - раз и навсегда» (Корман Э. Указ. соч. С. 94).
38 Ср.: Агапкина Т.А. Угол // Славянская мифология: Энциклопедический словарь. 2-е
изд., испр. и доп. М., 2002. С. 471.
Ср.: «Одна из устойчивых у Достоевского вариаций темы узости и ужаса воплощается в образе человека в углу между шкафом и дверью (стеной, окном)» (Топоров В.Н. О структуре романа Достоевского в связи с архаическими схемами мифологического мышления («Преступление и наказание»). С. 224).
40 См. о направленной на смерть сексуальности нечисти: Топоров В.Н. Неомифологизм в русской литературе начала XX века. Роман А.А.Кондратьева «На берегах Ярыни». Trento, 1990. С. 92.
Ср.: «.во сне встречаются инверсии ситуации, взаимоотношения между двумя лицами, как в “перевернутом мире”» (Фрейд З. Введение в психоанализ: Лекции / Пер. с нем. 2-е изд. М., 1991. С. 112).
42 Карякин Ю.Ф. Указ. соч. С. 450.
43 Мережковский Д. Указ. соч. С. 126.
44 Там же. С. 127.
45 Бахтин М.М. Проблемы поэтики Достоевского. С. 168-169.
46 Франк С.Л. Достоевский и кризис гуманизма // О Достоевском: Творчество Достоевского в русской мысли 1881-1931 годов. М., 1990. С. 395.
47 Корман Э. Указ. соч. С. 93.
Ср. в подготовительных материалах к роману: «Ночь в разврате. На другой день застрелился» (VII, 202).
49 Ср.: «В потустороннем мире с перевернутыми связями воспринимается как норма то, что считается патологией в мире людей» (Мазалова Н.Е. Состав человеческий: Человек в традиционных соматических представлениях русских. СПб., 2001. С. 173).
50 Лотман Ю. О «реализме» Гоголя // Труды по русской и славянской филологии. Литературоведение. II. Тарту, 1986. С. 32. (Новая серия).
51 Ср. разработанный в фольклоре принцип персонификации границы в образе того или иного существа, предмета или места: Мелетинский Е.М., Неклюдов С.Ю., Новик Е.С., Сегал Д.М. Указ. соч. С. 148.
52 Бочаров С.Г. Сюжеты русской литературы. М., 1999. С. 9.
53 Фрейденберг О.М. Происхождение пародии // Труды по знаковым системам. Т. VI. Тарту, 1973. С. 497.
54 Тынянов Ю.Н. Достоевский и Гоголь (к теории пародии) // Тынянов Ю.Н. Поэтика. История литературы. Кино. М., 1977. С. 212.
55 Фрейденберг О.М. Указ. соч. С. 497.
56 Ср.: Там же. С. 495.
В своих романах Ф. М. Достоевский раскрывает сложные процессы внутренней жизни своих героев, их чувства, эмоции, тайные желания, переживания и опасения. В этом контексте особую значимость приобретают сны персонажей. Сон, как композиционный элемент, может выполнять различные функции и нести свою особенную смысловую нагрузку. Давайте попробуем разобраться, какова роль и значение снов в романе "Преступление и наказание".
Первый раз Достоевский вводит сон в первой части произведения, еще до убийства старухи-процентщицы. Заснув на улице по причине болезненного своего состояния и выпитой накануне рюмки, Раскольников видит свое детство: маленький Родя вместе с отцом гуляет за городом в светлый праздничный день, однако вскоре идиллию нарушает один страшный эпизод. Молодой мужик Миколка, выйдя из кабака, начинает хлестать свою "тощую саврасую клячонку", которой не под силу везти груз в виде без малого десяти человек, а потом добивает ее железным ломом. Первое, что лежит на поверхности, это то, что чистая детская натура Раскольникова протестует против насилия. Маленький Родион подбегает к клячонке и целует ее в окровавленную морду, а потом с кулачками бросается на убившего "лошадку" Миколку. То, что нам дан именно детский взгляд на ситуацию, - неслучайно. Детское сознание - чистое и незашоренное никакими теориями, ребенок живет - сердцем. И в душе Раскольникова этот ребенок борется с его разумом, рождающим столь губительные казуистические теории. Здесь проявляется двойственность натуры главного героя. О мучительной раздвоенности Раскольникова свидетельствуют и два противоположных образа из его сна - церковь и кабак. Кабак - является символом того, что губит людей, это средоточие зла, разврата, безрассудства, это то место, где человек теряет свои человеческий облик (неслучайно нравственно опустившийся Свидригайлов - завсегдатай кабаков и прочих "клоак", поскольку один из признаков развратности - отсутствие некого эстетического чувства). Церковь же олицетворяет все лучшее, что есть в человеческой природе. Характерно, что в церковь маленький Родя ходить любил, а кабак всегда производил на него "неприятнейшее впечатление". Таким образом, кабак и церковь в метафорическом плане представляют собой нравственные ориентиры человека в реальной жизни. Символично то, что Родион задерживается у кабака по пути в церковь и так в нее и не попадает. На мой взгляд, это можно трактовать двояко. Например, это может означать с одной стороны то, что Раскольников свернул с истинного пути, а с другой, что он сделал это все же не по своей воле, а во имя лошади Миколки, символизирующей всех "униженных и оскорбленных". Примечательно, что с этим эпизодом сна Раскольникова перекликается горькое восклицание Катерины Ивановны: "Уездили клячу! Надорвала-ась!".
Однако стоит поподробнее остановится на лошади и ее символике. Помимо того, что она представляет тех, за чье благо борется Раскольников, она в то же время символизирует ту самую "бесполезную вошь", старушонку, ставшую его жертвой. То есть этот сон предрекает те самые кровавые события в будущем. Поэтому, проснувшись, Раскольников отрекается от своей "проклятой мечты" и задается вопросами: "Да неужели ж, неужели ж я в самом деле возьму топор, стану бить по голове, размозжу ей череп... буду скользить в липкой тёплой крови, взламывать замок, красть и дрожать; прятаться, весь залитый кровью... с топором. Господи, неужели?". И если лошадь - это старуха-процентщица, то логично будет предположить, что Миколка - это Раскольников. И тут рассуждение опять же затрагивает тему двойственности Раскольникова, что в нем могут уживаться безгрешный наивный ребенок и страшный убийца. Примечательно, на мой взгляд, и то, что имя Миколки фигурирует в тексте не один раз. Действительно, между Миколкой из сна и Миколкой, сознавшемся в преступлении, можно провести параллель. С первым Миколкой Раскольникова роднит совершенное злодеяние, что касается второго Миколки, интересно, что Порфирий Петрович упоминает о том, что Миколка из "раскольников". Наверняка, это не простое совпадение, а сознательная авторская отсылка к гланому герою. Таким образом, второй Миколка как бы подает пример Раскольникову, показывает то, как ему нужно поступить в сложившейся ситуации. Миколка хоть и появляется лишь в нескольких эпизодах романа, его образ очень важен. Он является символом добровольного страдания, только через него по Достоевскому можно искупить свои грехи, очиститься и нравственно возродиться.
Свой третий сон Раскольников видит уже на каторге. В этом сне он как бы заново переосмысливает происшедшие события, свою теорию. Раскольникову представляется, будто весь мир осужден в жертву «страшной... моровой язве ». Появились какие- то новые микроскопические существа, трихины, заражающие людей и делающие их бесноватыми.Зараженные не слышат и не понимают других, считая лишь свое мнение абсолютно вер-ным и единственно правильным. Оставив свои занятия, ремесла и земледелие, люди убивают друг друга в какой- то бессмысленной злобе. Начинаются пожары, голод, гибнет все вокруг. Во всем мире спастись могут лишь несколько человек, «чистых и избранных »,но их никто и никогда не видел. Сон этот являет собой крайнее воплощение индивидуалистической теории Раскольникова, показывая угрожающие результаты пагубного влияния ее на мир и человечество.Характерно, что индивидуализм теперь отождествляется в сознании Родиона с бес-новатостью и сумасшествием. Фактически идея героя о сильных личностях, Наполеонах, которым « все дозволено», представляется теперь ему болезнью, сумасшествием, помутнением разума. Более того, распространение этой теории во всем мире — это то, что вызывает наибольшие опасения Раскольникова. Теперь герой сознает, что идея его противна самой человеческой природе, разуму, Божественному мироустройству. Поняв и приняв все это своей душой, Раскольников испытывает нравственное просветление. Недаром именно после этого сна он начинает осознавать свою любовь к Соне, открывающую ему веру в жизнь.
Еще один человек помимо Раскольникова, кто видит сны, - Свиригайлов. И примечательно, что этот факт в какой-то мере обуславливает их двойничество. Совесть до конца не оставляет в покое ни одного, ни другого. Накануне самоубийства Свидригайлов видит несколько сновидений, одно переходит в другое. Существенно, что переходы Свидригайлова из одного сна в другой имеют свою внутреннюю логику: «…в снах есть тема разврата, нарастающая от первого к третьему»; в первом сне, где появляется мышь, тема разврата «дана лишь намеком, лишь ощущением скользкого, противного», во втором сне возникает девочка-утопленница, «жертва разврата», в третьем сне - пятилетняя «девочка», «разврат полностью овладел ею». Образ пятилетней, возникший во сне Свидригайлова, глубоко символичен, поскольку воплощает в себе возможный предел человеческого падения, который ужасает даже Свидригайлова. Этот сон может также характеризовать Свидригайлова как человека, не способного возродиться. Поскольку возраст его "жертв" варьируется от двенадцати до шестнадцати, то представляется вполне возможным, что однажды он может "понизить планку". Дети для Достоевского - святое, поэтому нетрудно догадаться, что поступки Свидригайлова расцениваются автором как едва ли не самый тяжелый грех. И возможно, самоубийство - был еднственный выход из этого ада, в которых сам герой себя и загнал.
Таким образом, сны и видения героев романа передают их внутренние состояния, чувства, сокровенные желания и тайные опасения. Композиционно сны нередко предваряют будущие события. Кроме того, сны перекликаются с идейным замыслом произведения и с авторской оценкой тех или иных событий.