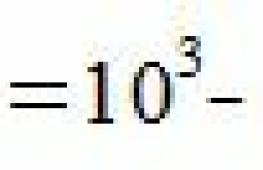Смотреть что такое "гюйо" в других словарях. Гюйо, жан мари
Биография (Гольцева. С. Л. )
Гюйо Жан Мари (Jean Marie Guyau) - талантливый французский философ новейшего времени (1854-1888). Наиболее известны из его произведений: "La morale d"Epicure", "La morale anglaise contemporaine", "Esquisse d"une morale sans obligation ni sanction", "Vers d"un philosophe", "Les problemes d"esthetique contemporaine", "L"art au point de vue sociologique", "Education et heredite" и "L"Irreligion de l"avenir". В "Revue philosophique" Гюйо поместил, кроме того, ряд интересных этюдов по этике, психологии и эстетике. В последние годы жизни почти не мог работать вследствие болезни, причинявшей ему иногда невыносимые страдания. Все произведения Гюйо носят печать замечательной ясности мышления и мастерского уменья, не теряясь в грудах научного материала, извлекать из него все ценное для своих выводов.
Гюйо не был ни пессимистом, ни оптимистом; преувеличения, в которые впадают оба эти направления, превосходно разобраны в его "Esquisse d"une morale" и "L"Irreligion de l"avenir". "Nul coeur ne bat-il donc dans ton immensite" - спрашивает у природы поэт философ. Но в следующем вопросе уже слышится подсказываемый им себе ответ: "N"est-ce point de l"amour que ta fecondite?". Эта последняя гипотеза мало-помалу получает для Гюйо значение ключа, отворяющего все двери. Основная мысль, развитием которой задался Гюйо, заключается в идее жизни как общего плодотворного начала, на котором зиждется все: мораль, религия, социология, искусство.
Жизнь в самой своей интенсивности уже заключает начало естественного стремления к распространению, совершенно так же, как жидкость, переполняющая сосуд, разливается вокруг; в идее жизни объединяются обе точки зрения, индивидуальная и социальная, как нечто нераздельное, и нет никакой надобности противополагать их одну другой, как это делают утилитарные теории. Но если вся жизнь представляется в нашем сознании нераздельно личною и коллективною, то тем же характером должно быть запечатлено и то чувство, которое нам дает жизнь, как только она достигает в нас наибольшей интенсивности и свободы - чувство удовольствия. В самом деле, говорит Гюйо, существует ли удовольствие чисто личное и вполне эгоистичное? Чтобы подыскать такое удовольствие, надо спуститься очень низко по лестнице живых существ - до полипа, моллюска, прикрепленного к одному месту.
Но стоит лишь подняться хоть немного выше, чтобы скрещивание сферы деятельности неделимого с областью деятельности других существ сделалось совершенно неизбежным. В человеке чистый эгоизм был бы не только самоизувечением, а просто невозможностью. Ни его удовольствия, ни его страдания не могут считаться безусловно его собственными; начиная с момента рождения, все радости и печали человечества запечатлеваются в нашем сердце. Подобно тому, как личное я в глазах современного психолога является чистейшею иллюзией, ибо мы представляем собою сочетание бесконечного множества существ и отдельных состояний сознания, точно так же можно утверждать, что и эгоистичное удовольствие не более, как иллюзия. Мое собственное удовольствие не существует отдельно от удовольствия других; я чувствую, что все общество должно в большей или меньшей степени в нем участвовать, начиная с маленького общественного союза - моей семьи, и кончая всем обществом, в среде которого я живу.
Это понятие жизни как внутреннего слияния индивидуального и коллективного существований Гюйо последовательно переносит в эстетику, мораль и религию. Основным началом эстетической эмоции является чувство солидарности; такая солидарность может существовать как между различными частями одного и того же неделимого, так и между различными особями. Греки считали гармонию одним из существенных признаков красоты; эта гармония для новейшей психологии сводится к органической солидарности, к своего рода коллективному самосознанию в неделимом существе. Более возвышенною эстетическою эмоциею является та, которая вытекает уже из более широкой солидарности - социальной.
К своей оригинальной попытке построить мораль независимо от понятия нравственного долга и какой бы то ни было санкции Гюйо пришел на основании анализа учения гедонистов вообще и в частности английского утилитаризма, в котором он видит отголоски морали эпикурейцев. Современная английская мораль, по его мнению, слишком выдвигает на первый план мотив удовольствия, становясь почти исключительно на точку зрения целесообразности поведения, т. е. причинности сознательного, а не бессознательного. Научный анализ мотивов не должен, по мнению Гюйо, ограничиваться одними только сознательными побуждениями, так как большинство наших движений отнюдь не исходят из сознания и не образуют сознательных стремлений к намеченной цели. Сознание - это только маленькая светлая точка в громадной темной среде жизни, крошечное выпуклое стекло, собирающее в своем фокусе небольшой пучок световых лучей.
Естественная пружина действия прежде своего появления в сознании уже должна была влиять в области подсознательной, в темной сфере человеческих инстинктов; сознательная цель действия первоначально должна была служить двигательною причиною более или менее бессознательных стремлений, еще не достигших той степени яркости, которая необходима для самосознания. Цель, которою фактически определяется всякое сознательное действие, лежит в той двигательной причине которая производит всякое бессознательное действие, - но это и есть сама жизнь. С накоплением в теле энергии ощущается потребность траты: если трате этой силы что-нибудь мешает, сила эта становится желанием; когда желание удовлетворено, является чувство удовольствия, в противном случае - неудовольствия.
Но отсюда вовсе не вытекает, как думают Эпикур и утилитаристы, чтобы накопившаяся энергия развивалась единственно ввиду ожидаемого удовольствия; удовольствие скорее сопровождает жизнедеятельность, чем вызывает ее; надо прежде всего жить, а уж потом наслаждаться; первым и последним звеном в цепи существования всегда будет функция, жизнь, которая развивается и протекает только потому, что она жизнь. Антогонизм между эгоизмом и альтруизмом находит себе разрешение в том же принципе жизни. Эгоизм является результатом уменьшения жизнедеятетьности благодаря разным неблагоприятным для жизни внешним условиям - а из нормальных жизненных стремлений, из интенсивности жизни необходимо вытекает альтруизм. Эгоист - это тот, кто не живет жизнью в достаточной степени интенсивною, у кого отсутствует сознание о социальном по природе вещей характере индивидуальной жизни.
Закон нормального соотношения между нарастанием жизненной энергии и ее альтруистическою тратою Гюйо называет законом морального плодородия (loi de fecondite morale). Существование этого закона Гюйо доказывает тем, что в силу основного биологического закона жизнь есть не только питание, но и производительность. Производительная функция для физиологов составляет не что иное, как эксцесс питания и роста. Переходя от физического мира к умственному, мы и здесь встречаемся с тем же законом. Заключить в себе умственную силу так же трудно, как удержать пламя; она создана для того, чтобы испускать лучи. Тем же стремлением к производительности отличается и наша воля: мы постоянно чувствуем потребность действовать. Таким образом все наше существо по природе своей общежительно во всех своих стремлениях; жизнь не может быть вполне эгоистичною, хотя бы она этого и хотела.
Происхождение идеи нравственного долга Гюйо объясняет тем, что сознание долга есть прежде всего импульс избытка силы, которая требует себе деятельности и, встречаясь на пути с препятствиями, вступает с ними в борьбу. Долг вытекает из сознания возможности осуществить что-либо; вместо того, чтобы говорить: "я должен, следовательно, я могу", правильнее сказать: "я могу, стало быть, я должен". В последней своей книге, "L"Irreligion de l"avenir", не удовлетворяясь прежними гипотезами, Гюйо полагает, что истинным источником происхождения религиозных верований является стремление социальной жизни к расширению сферы человеческого общения не только на всех живущих на земле, но и на те существа, которыми мысль человека населила надземный мир. Социологическая основа религии отразилась и на ее форме.
Общественная жизнь является моделью, типом, по которому в древних верованиях строятся взаимные отношения людей и высших существ. Чтобы обеспечить себе дружбу и покровительство богов, древний человек прибегал к тем же средствам, как и в отношениях с себе подобными: мольбам, подаркам, выражениям покорности и т. п. Религия является, таким образом, социологиею, которая эволюирует вместе с человеческим обществом, отражением которого она является.
Из соч. Гюйо по-русски переведены:
* "Искусство с точки зрения социологии" (СПб., 1891);
* "Современная эстетика" (1889);
* "Происхождение идеи времени" (Смоленск, 1891).
* О Гюйо было неск. журн. статей, между прочим В. А.
Биография (Н. Н. Козюра. БСЭ, 1969-1978 )
Гюйо (Guvau) Жан Мари (28. 10. 1854, Лаваль, - 31. 3. 1888, Ментона), французский философ-позитивист, сторонник утилитаризма. Профессор лицея Кондорсе (Париж). Основные работы посвящены эстетике, морали и религии. Особое внимание Гюйо сосредоточивает на социальном содержании искусства (понимаемом в своей основе как биологическое), искусство, по Гюйо, есть одновременно и результат избытка жизненных сил, и деятельность, требующая напряжённого труда ("Задачи современной эстетики", 1884, рус. пер. 1899, "Искусство с точки зрения социологии", 1889, рус. пер. 1891). Рассматривая духовные явления с точки зрения пользы для биологического функционирования, Гюйо характеризует нравственность как необходимость, обеспечивающую равновесие жизненных сил. Социологические взгляды Гюйо носят мелкобуржуазный характер. Общество будущего рисовалось Гюйо в виде гармонической солидарности умов, воли и эмоций.
По мнению Гюйо, с эволюцией человека традиционные религиозные представления должны отпасть "Безверие будущего", 1887, рус. пер. 1908). Стоя на элитарной позиции, Гюйо разделял человечество на творцов - носителей высшей "жизненной интенсивности", и на пассивную массу.
Соч. в рус. пер.: Собр. соч., т. 1-5, СПБ, 1898-1901.
Лит.: Радлов Э. Л., Принципы философии Гюйо, "Журнал Министерства народного просвещения", 1894,№ 5; Криль Т., Мысли Гюйо о нравственности и воспитании, "Образование", 1896, № 2-3, отдел 2; Fouilee A, La morale, I "art et la religion d"apres М. Guyau, 4 ed., P., 1901; Bergmann E., Die Philosophie Guyaus, Lpz., 1912.
Биография (Ирина Блауберг )
ГЮЙО, МАРИ ЖАН (Guyau, Marie-Jean) (1854–1888), французский философ. Родился 28 октября 1854 в Лавале. С детства проявлял разнообразные способности, занимался математикой и поэзией. В юности увлекся философией, читал Платона и Канта; особенно сильное впечатление произвела на него этика Эпиктета. Первым руководителем в его занятиях была мать, автор известных в ту пору сочинений по педагогике, одно из которых было удостоено премии Французской Академии, а затем его воспитанием занялся отчим, философ Альфред Фуйе. В 17 лет Гюйо была присвоена степень агреже по словесности. В 1873 Академия моральных и политических наук присудила ему премию за сочинение об утилитарной морали (от Эпиктета до современной английской школы). В 1874 Гюйо начал читать курс философии студентам лицея Кондорсе. В 1877–1885 сотрудничал в журналах «Revue philosophique» и «Revue des Deux Mondes», где публиковал статьи и фрагменты своих работ.
В многочисленных философских сочинениях Гюйо дает обоснование ценностей – науки, морали, религии и искусства, – исходя из понятия жизни. Общий для всех «порыв жизни» нерасторжимо связывает человека с другими людьми, создавая основу социальной солидарности и согласия; им обусловлено чувство единства человека с космосом. Все мироздание, как и отдельный человек и общество в целом, движимо законом расширения жизни и возрастания ее интенсивности. В будущем свободное развитие жизненных сил может привести к возникновению новых форм жизни. Поскольку в жизни естественным образом согласуется точка зрения индивидуальная и коллективная, общественная, есть основание надеяться на создание общества будущего, где были бы сняты противоречия эгоизма и альтруизма и господствовала «мораль без обязательства и санкции», главный принцип которой – максимальное распространение жизни во всех направлениях, а значит, расширение общения людей, симпатии или альтруизма. В этом смысле одна из важнейших моральных максим – жить возможно более деятельной и интенсивной жизнью. Книга Набросок морали без долга и санкции (Esquisse d"une morale sans obligation ni sanction, 1885) оставила заметный след в истории идей: эту книгу, как и другую, Безверие будущего, высоко оценил Ницше.
С представлениями Гюйо о морали связана концепция «безверия» (irreligion), которое должно прийти на смену современным религиозным формам (Безверие будущего, L"irreligion de l"avenir, 1887). Гюйо полагал, что время религии как системы догматов миновало, но безверие будущего – не антирелигиозная эпоха, не отрицание религии, а ее высшая ступень. Искусство, также являющееся расширением жизни, создается людьми, способными уловить жизнь природы и передать свои впечатления другим людям путем «симпатии». Такова же и функция философа; кроме того, философия, в отличие от наук, способных только констатировать факты и управляющие ими законы, может судить и об идеалах и целях людей, хотя ни одна отдельно взятая доктрина не в силах полностью выразить творческие возможности жизни.
Многие идеи Гюйо, в том числе подчеркивание им бессознательной стороны в человеке, получили развитие в философии 20 в., в концепциях Ницше, Бергсона и др. Гюйо писал также стихи и драматические произведения.
Основные сочинения:
* Избранные мысли. СПб, 1867
* Происхождение идеи времени. Психологический этюд. СПб, 1899
* Задачи современной эстетики. Очерк морали. СПб, 1899
* Безверие будущего. СПб, 1908
* Иррелигиозность будущего. М., 1909
* Этика Эпикура (La morale d"Epicure et ses rapports avec les doctrines contemporaines, 1878);
* Современная английская этика (La morale anglaise contemporaine, 1879);
* Проблемы современной эстетики (Les problemes de l"esthetique contemporaine, 1884); Искусство с социологической точки зрения (L"art au point de vue sociologique, 1889); Образование и наследственность (Education et heredite, 1889);
* Происхождение идеи времени (La genese de l"idee de temps, 1890).
Гюйо Жан Мари
(Jean Marie Guyau) - талантливый французский философ новейшего времени (1854-1888). Наиболее известны из его произведений: "La morale d"Epicure", "La morale anglaise contemporaine", "Esquisse d"une morale sans obligation ni sanction", "Vers d"un philosophe", "Les problèmes d"esthétique contemporaine", "L"art au point de vue sociologique", "Education et hérédité" и "L"Irréligion de l"avenir". В "Revue philosophique" Г. поместил, кроме того, ряд интересных этюдов по этике, психологии и эстетике. В последние годы жизни почти не мог работать вследствие болезни, причинявшей ему иногда невыносимые страдания. Все произведения Г. носят печать замечательной ясности мышления и мастерского уменья, не теряясь в грудах научного материала, извлекать из него все ценное для своих выводов. Г. не был ни пессимистом, ни оптимистом; преувеличения, в которые впадают оба эти направления, превосходно разобраны в его "Esquisse d"une morale" и "L"Irréligion de l"avenir". "Nul coeur ne bat-il donc dans ton immensité" - спрашивает у природы поэт философ. Но в следующем вопросе уже слышится подсказываемый им себе ответ: "N"est-ce point de l"amour que ta fécondité?". Эта последняя гипотеза мало-помалу получает для Г. значение ключа, отворяющего все двери. Основная мысль, развитием которой задался Г., заключается в идее жизни как общего плодотворного начала, на котором зиждется все: мораль, религия, социология, искусство. Жизнь в самой своей интенсивности уже заключает начало естественного стремления к распространению, совершенно так же, как жидкость, переполняющая сосуд, разливается вокруг; в идее жизни объединяются обе точки зрения, индивидуальная и социальная, как нечто нераздельное, и нет никакой надобности противополагать их одну другой, как это делают утилитарные теории. Но если вся жизнь представляется в нашем сознании нераздельно личною и коллективною, то тем же характером должно быть запечатлено и то чувство, которое нам дает жизнь, как только она достигает в нас наибольшей интенсивности и свободы - чувство удовольствия. В самом деле, говорит Г., существует ли удовольствие чисто личное и вполне эгоистичное? Чтобы подыскать такое удовольствие, надо спуститься очень низко по лестнице живых существ - до полипа, моллюска, прикрепленного к одному месту.
Но стоит лишь подняться хоть немного выше, чтобы скрещивание сферы деятельности неделимого с областью деятельности других существ сделалось совершенно неизбежным. В человеке чистый эгоизм был бы не только самоизувечением, а просто невозможностью. Ни его удовольствия, ни его страдания не могут считаться безусловно его собственными; начиная с момента рождения, все радости и печали человечества запечатлеваются в нашем сердце. Подобно тому, как личное я
в глазах современного психолога является чистейшею иллюзией, ибо мы представляем собою сочетание бесконечного множества существ и отдельных состояний сознания, точно так же можно утверждать, что и эгоистичное удовольствие не более, как иллюзия. Мое собственное удовольствие не существует отдельно от удовольствия других; я чувствую, что все общество должно в большей или меньшей степени в нем участвовать, начиная с маленького общественного союза - моей семьи, и кончая всем обществом, в среде которого я живу. Это понятие жизни как внутреннего слияния индивидуального и коллективного существований Г. последовательно переносит в эстетику, мораль и религию. Основным началом эстетической эмоции является чувство солидарности; такая солидарность может существовать как между различными частями одного и того же неделимого, так и между различными особями. Греки считали гармонию одним из существенных признаков красоты; эта гармония для новейшей психологии сводится к органической солидарности, к своего рода коллективному самосознанию в неделимом существе. Более возвышенною эстетическою эмоциею является та, которая вытекает уже из более широкой солидарности - социальной. К своей оригинальной попытке построить мораль независимо от понятия нравственного долга и какой бы то ни было санкции Г. пришел на основании анализа учения гедонистов вообще и в частности английского утилитаризма, в котором он видит отголоски морали эпикурейцев. Современная английская мораль, по его мнению, слишком выдвигает на первый план мотив удовольствия, становясь почти исключительно на точку зрения целесообразности поведения, т. е. причинности сознательного, а не бессознательного. Научный анализ мотивов не должен, по мнению Г., ограничиваться одними только сознательными побуждениями, так как большинство наших движений отнюдь не исходят из сознания и не образуют сознательных стремлений к намеченной цели. Сознание - это только маленькая светлая точка в громадной темной среде жизни, крошечное выпуклое стекло, собирающее в своем фокусе небольшой пучок световых лучей. Естественная пружина действия прежде своего появления в сознании уже должна была влиять в области подсознательной, в темной сфере человеческих инстинктов; сознательная цель действия первоначально должна была служить двигательною причиною более или менее бессознательных стремлений, еще не достигших той степени яркости, которая необходима для самосознания. Цель, которою фактически определяется всякое сознательное действие, лежит в той двигательной причине которая производит всякое бессознательное действие, - но это и есть сама жизнь. С накоплением в теле энергии ощущается потребность траты: если трате этой силы что-нибудь мешает, сила эта становится желанием; когда желание удовлетворено, является чувство удовольствия, в противном случае - неудовольствия. Но отсюда вовсе не вытекает, как думают Эпикур и утилитаристы, чтобы накопившаяся энергия развивалась единственно ввиду ожидаемого удовольствия; удовольствие скорее сопровождает жизнедеятельность, чем вызывает ее; надо прежде всего жить, а уж потом наслаждаться; первым и последним звеном в цепи существования всегда будет функция, жизнь, которая развивается и протекает только потому, что она жизнь. Антогонизм между эгоизмом и альтруизмом находит себе разрешение в том же принципе жизни. Эгоизм является результатом уменьшения жизнедеятетьности благодаря разным неблагоприятным для жизни внешним условиям - а из нормальных жизненных стремлений, из интенсивности жизни необходимо вытекает альтруизм. Эгоист - это тот, кто не живет жизнью в достаточной степени интенсивною, у кого отсутствует сознание о социальном по природе вещей характере индивидуальной жизни. Закон нормального соотношения между нарастанием жизненной энергии и ее альтруистическою тратою Г. называет законом морального плодородия (loi de fécondité morale). Существование этого закона Г. доказывает тем, что в силу основного биологического закона жизнь есть не только питание, но и производительность. Производительная функция для физиологов составляет не что иное, как эксцесс питания и роста. Переходя от физического мира к умственному, мы и здесь встречаемся с тем же законом. Заключить в себе умственную силу так же трудно, как удержать пламя; она создана для того, чтобы испускать лучи. Тем же стремлением к производительности отличается и наша воля: мы постоянно чувствуем потребность действовать. Таким образом все наше существо по природе своей общежительно во всех своих стремлениях; жизнь не может быть вполне эгоистичною, хотя бы она этого и хотела. Происхождение идеи нравственного долга Г. объясняет тем, что сознание долга есть прежде всего импульс избытка силы, которая требует себе деятельности и, встречаясь на пути с препятствиями, вступает с ними в борьбу. Долг вытекает из сознания возможности осуществить что-либо; вместо того, чтобы говорить: "я должен, следовательно, я могу", правильнее сказать: "я могу, стало быть, я должен". В последней своей книге, "L"Irréligion de l"avenir", не удовлетворяясь прежними гипотезами, Г. полагает, что истинным источником происхождения религиозных верований является стремление социальной жизни к расширению сферы человеческого общения не только на всех живущих на земле, но и на те существа, которыми мысль человека населила надземный мир. Социологическая основа религии отразилась и на ее форме. Общественная жизнь является моделью, типом, по которому в древних верованиях строятся взаимные отношения людей и высших существ. Чтобы обеспечить себе дружбу и покровительство богов, древний человек прибегал к тем же средствам, как и в отношениях с себе подобными: мольбам, подаркам, выражениям покорности и т. п. Религия является, таким образом, социологиею, которая эволюирует вместе с человеческим обществом, отражением которого она является. Из соч. Г. по-русски переведены: "Искусство с точки зрения социологии" (СПб., 1891); "Современная эстетика" (1889); "Происхождение идеи времени" (Смоленск, 1891). О Г. было неск. журн. статей, между прочим В. А. Гольцева.
Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона. - С.-Пб.: Брокгауз-Ефрон . 1890-1907 .
Смотреть что такое "Гюйо Жан Мари" в других словарях:
- (Guyau) (1854 1888), французский философ, сторонник утилитаризма; рассматривал духовные явления с точки зрения их биологической полезности. * * * ГЮЙО Жан Мари ГЮЙО (Guyau) Жан Мари (1854 88), французский философ, сторонник утилитаризма (см.… … Энциклопедический словарь
Гюйо (Guvau) Жан Мари (28. 10. 1854, Лаваль, ≈ 31. 3. 1888, Ментона), французский философ позитивист, сторонник утилитаризма. Профессор лицея Кондорсе (Париж). Основные работы посвящены эстетике, морали и религии. Особое внимание Г.… … Большая советская энциклопедия
ГЮЙО Жан Мари - (1854 1888) фр. философ позитивист. В религии Г. видел фантастич. объяснение окружающего мира по аналогии с человеч. обществом. Религия, по Г., изменяется вместе с эволюцией общества и в будущем исчезнет. Однако Г. считал возможным… … Атеистический словарь
ГЮЙО (Жан Мари) - французский философ (Лаваль, 1854 Ментона, 1888). Автор «Эскиза морали без обязательств и санкций» (1884), где особая роль отводится человеческой солидарности … Философский словарь
- (Guyau) Гюйо (Guyau) Жан Мари (1854 1888) Французский философ позитивист, поэт. Родился 28 октября 1854, Лаваль. Профессор лицея Кондорсе (Париж). Умер 31 марта 1888, Ментона. Являлся сторонником утилитаризма. Основные работы посвящены эстетике,… … Сводная энциклопедия афоризмов
Жан Мари Гюйо (фр. Jean-Marie Guyau; 28 октября 1854, Лаваль, Франция - 31 марта 1888, Ментона, Франция) - французский философ-спиритуалист и поэт.
Биография
Приёмный сын философа Альфреда Фулье, мать - писательница Августина Фулье, публиковавшаяся под псевдонимом G. Bruno. В 19 лет получил почётную премию от Академии моральных и политических наук за исследования утилитаристских воззрений в истории этики и стал преподавателем философии в лицее Кондорсе. В последние годы жизни почти не мог работать вследствие болезни, причинявшей ему иногда невыносимые страдания. Умер от туберкулёза в 33 года.
Философские взгляды
Все произведения Гюйо носят печать замечательной ясности мышления и мастерского уменья, не теряясь в грудах научного материала, извлекать из него всё ценное для своих выводов. Гюйо не был ни пессимистом, ни оптимистом; преувеличения, в которые впадают оба эти направления, превосходно разобраны в его Esquisse d’une morale и L’Irrligion de l’avenir.
Основная мысль, развитием которой задался Гюйо, заключается в идее жизни как общего плодотворного начала, на котором зиждется всё: мораль, религия, социология, искусство. Жизнь в самой своей интенсивности уже заключает начало естественного стремления к распространению, совершенно так же, как жидкость, переполняющая сосуд, разливается вокруг; в идее жизни объединяются обе точки зрения, индивидуальная и социальная, как нечто нераздельное, и нет никакой надобности противополагать их одну другой, как это делают утилитарные теории. Но если вся жизнь представляется в нашем сознании нераздельно личною и коллективною, то тем же характером должно быть запечатлено и то чувство, которое нам дает жизнь, как только она достигает в нас наибольшей интенсивности и свободы - чувство удовольствия. В самом деле, говорит Гюйо, существует ли удовольствие чисто личное и вполне эгоистичное? Чтобы подыскать такое удовольствие, надо спуститься очень низко по лестнице живых существ - до полипа, моллюска, прикрепленного к одному месту. Но стоит лишь подняться хоть немного выше, чтобы скрещивание сферы деятельности неделимого с областью деятельности других существ сделалось совершенно неизбежным. В человеке чистый эгоизм был бы не только самоизувечением, а просто невозможностью. Ни его удовольствия, ни его страдания не могут считаться безусловно его собственными; начиная с момента рождения, все радости и печали человечества запечатлеваются в нашем сердце. Подобно тому, как личное я в глазах психолога является чистейшею иллюзией, ибо мы представляем собою сочетание бесконечного множества существ и отдельных состояний сознания, точно так же можно утверждать, что и эгоистичное удовольствие не более, как иллюзия. Моё собственное удовольствие не существует отдельно от удовольствия других; я чувствую, что всё общество должно в большей или меньшей степени в нём участвовать, начиная с маленького общественного союза - моей семьи, и кончая всем обществом, в среде которого я живу.
Это понятие жизни как внутреннего слияния индивидуального и коллективного существований Гюйо последовательно переносит в эстетику, мораль и религию. Основным началом эстетической эмоции является чувство солидарности; такая солидарность может существовать как между различными частями одного и того же неделимого, так и между различными особями. Греки считали гармонию одним из существенных признаков красоты; эта гармония для новейшей психологии сводится к органической солидарности, к своего рода коллективному самосознанию в неделимом существе. Более возвышенною эстетическою эмоцией является та, которая вытекает уже из более широкой солидарности - социальной.
К своей оригинальной попытке построить мораль независимо от понятия нравственного долга и какой бы то ни было санкции Гюйо пришёл на основании анализа учения гедонистов вообще и в частности английского утилитаризма, в котором он видит отголоски морали эпикурейцев. Современная английская мораль, по его мнению, слишком выдвигает на первый план мотив удовольствия, становясь почти исключительно на точку зрения целесообразности поведения, то есть причинности сознательного, а не бессознательного. Научный анализ мотивов не должен, по мнению Гюйо, ограничиваться одними только сознательными побуждениями, так как большинство наших движений отнюдь не исходят из сознания и не образуют сознательных стремлений к намеченной цели. Сознание - это только маленькая светлая точка в громадной тёмной среде жизни, крошечное выпуклое стекло, собирающее в своем фокусе небольшой пучок световых лучей. Естественная пружина действия прежде своего появления в сознании уже должна была влиять в области подсознательной, в темной сфере человеческих инстинктов; сознательная цель действия первоначально должна была служить двигательною причиною более или менее бессознательных стремлений, ещё не достигших той степени яркости, которая необходима для самосознания. Цель, которою фактически определяется всякое сознательное действие, лежит в той двигательной причине которая производит всякое бессознательное действие, - но это и есть сама жизнь. С накоплением в теле энергии ощущается потребность траты: если трате этой силы что-нибудь мешает, сила эта становится желанием; когда желание удовлетворено, является чувство удовольствия, в противном случае - неудовольствия. Но отсюда вовсе не вытекает, как думают Эпикур и утилитаристы, чтобы накопившаяся энергия развивалась единственно ввиду ожидаемого удовольствия; удовольствие скорее сопровождает жизнедеятельность, чем вызывает её; надо прежде всего жить, а уж потом наслаждаться; первым и последним звеном в цепи существования всегда будет функция, жизнь, которая развивается и протекает только потому, что она жизнь. Антогонизм между эгоизмом и альтруизмом находит себе разрешение в том же принципе жизни. Эгоизм является результатом уменьшения жизнедеятетьности благодаря разным неблагоприятным для жизни внешним условиям - а из нормальных жизненных стремлений, из интенсивности жизни необходимо вытекает альтруизм. Эгоист - это тот, кто не живёт жизнью в достаточной степени интенсивною, у кого отсутствует сознание о социальном по природе вещей характере индивидуальной жизни.
Происхожденіе украинской идеологии Новѣйшаго времени
Происхождение человека современного типа - Вполне понятен поэтому тот большой и острый интерес, который в науке издавна вызывал вопрос о возникновении человека современного типа, в частности о ближайших предках Homo sapiens. Противники материалистических взглядов на происхождение… … Всемирная история. Энциклопедия
Происхождение нефти - Нефть результат литогенеза. Она представляет собой жидкую (в своей основе) гидрофобную фазу продуктов фоссилизации (захоронения) органического вещества (керогена) в водно осадочных отложениях в бескислородных условиях.… … Википедия
Происхождение птиц
ВРОЖДЕННЫЕ ИДЕИ - см. Врождённое знание. Философский энциклопедический словарь. М.: Советская энциклопедия. Гл. редакция: Л. Ф. Ильичёв, П. Н. Федосеев, С. М. Ковалёв, В. Г. Панов. 1983. ВРОЖДЕННЫЕ ИДЕИ … Философская энциклопедия
Суть времени (Интернет-передача) - Суть времени Автор Сергей Кургинян Ведущий Сергей Кургинян Страна производства Россия Яз … Википедия
Эволюция и происхождение птиц - Реконструкция археоптерикса в Музее естественной истории Оксфордского университета Овираптозавр Chirostenotes Энанциорнис относящийся к Enantiornithes Эволюция пт … Википедия
ЭТИКА - 1) наука о морали. Как термин и особая систематизированная дисциплина восходит к Аристотелю. От слова «этос», обозначавшего в гомеровской древности место обитания, а в последующем устойчивую природу к. л. явления, в т.ч. нрав, характер,… … Философская энциклопедия
Гюйо Жан Мари - (Jean Marie Guyau) талантливый французский философ новейшего времени (1854 1888). Наиболее известны из его произведений: La morale d Epicure , La morale anglaise contemporaine , Esquisse d une morale sans obligation ni sanction , Vers d un… … Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона
АТЕИЗМ - [от греч. ἄθεος отвергающий богов, лишенный Божества, безбожник], отрицание Бога, безбожие; с православно богословской т. зр. неверие в Бога Иисуса Христа и отрицание Его существования; связанная с этим отрицанием абсолютизация тварных сил мира… … Православная энциклопедия
Таджикская Советская Социалистическая Республика - (Республикаи Советии Социалистии Тоджикистон) Таджикистан. I. Общие сведения Таджикская АССР образована 14 октября 1924 в составе Узбекской ССР; 16 октября 1929 преобразована в Таджикскую ССР, 5 декабря 1929… … Большая советская энциклопедия
Многообразие понятий времени в истории мысли – факт, который не стал еще предметом исследования. Сколько бы ни рассуждали о времени, сколько бы ни сравнивали между собой различные учения о времени, само их многообразие не становилось эксплицитной темой. Даже в пределах одного философского учения значение термина «время» может меняться. Самым ярким примером является здесь Кант. Изучен ли в достаточной степени этот переход от одного понятия времени к другому в кантоведческих штудиях? С другой стороны, вплоть до середины XIX в. практически отсутствовали концепции происхождения представлений о времени. Эволюционизм и позитивизм XIX в. способствовал появлению таких теорий, и прежде всего в психологии. Первым обобщающим и в то же время новаторским трудом философского характера стала книга Жана-Мари Гюйо (1855-1888) «Происхождение идеи времени»
Учение о времени Бергсона, а затем и феноменологические концепции времени, прежде всего Брентано, Гуссерля, Хайдеггера, Мерло-Понти, Сартра и др. выдвинули на первый план проблемы онтологического статуса времени; вопрос о генезисе (эксплицитную постановку этого вопроса мы находим только у Брентано и Гуссерля) рассматривался как вопрос о происхождении времени, но не как вопрос о происхождении наших представлений о нем. Можно ли, однако, отделить эти два вопроса?
В плане влияния, названные и многие другие учения фактически оттеснили концепцию Гюйо, интерес к которой снова возник только в конце XX в., в эпоху так называемого пространственного поворота. Для нас концепция Гюйо представляет особый интерес не только потому, что представление о времени выводится здесь из представлений о пространстве (и движении), но прежде всего потому, что генетический аспект исследований Гюйо сочетается с многообразием контекстов и определений времени. Приведем только основные значения термина «время» у Гюйо. Время имеет неподвижное русло, время постоянно течет в этом русле, время – это абстракция и одновременно чувство, время – это расстояние между объектом, который имеешь, и объектом, которого желаешь. Время и движение происходят из непознаваемого внешнего мира и внутренней энергии. Время – художник, идеализирующий вещи. Время – это суждение о силе и эстетической ценности вещей и событий. Распределение ощущений в пространстве создает ту видимость, которую мы именуем временем. Время – четвертое измерение вещей, занимающих пространство. Время необратимо, пространство обратимо. Время – это среда, отличная от самого пространства, аналогичная внутренней среде инстинктивных жизненных влечений.
Последние тезисы, в частности, ставят под вопрос абсолютную оригинальность концепции Бергсона. С одной стороны, Гюйо сводит время к пространству, с другой – находит непространственное время, отождествляемое с жизненным влечением, и это фактически синоним «жизненного порыва». Следует, однако, заметить, что последний тезис появляется у Гюйо весьма неожиданно после многочисленных редукций времени к пространству и не получает дальнейшего развития.
Гюйо – один из первых критиков кантовской «трансцендентальной эстетики», его критику можно назвать предвосхищающей – она относится к традиции, берущей начало в кантовской философии, согласно которой время – это основа человеческого опыта и человеческого бытия.
Введение А.Фулье начинается с утверждения, что воззрение Гюйо представляет собой «важное видоизменение эволюционной теории» [Гюйо 1899, 1]. В противоположность общепринятому воззрению, «Гюйо не допускает зависимости восприятия протяженности от восприятия длительности, или продолжительности; он предполагает если не приоритет восприятия протяженности, то, по крайней мере, первоначальную одновременность этих двух рядов представлений» [Гюйо 1899, 1]. Сам Гюйо в первой главе своей книги не только склоняется к первенству представления протяженности, или пространства, но и пытается доказать это первенство с помощью филологии, сравнительной психологии: «Если же у человека, и особенно у ребенка, идея времени оказывается очень туманной сравнительно с идеей пространства, то в этом нужно видеть естественное последствие порядка в эволюции, развившей чувство пространства раньше чувства времени» [Гюйо 1899, 24]. Причину этого Гюйо усматривает в том, что пространство мы воспринимаем непосредственно, с помощью восприятия, а время – с помощью «воспроизводительного воображения»: «Для восприятия времени необходима апперцепция того, что данное представление есть воспроизведенное представление» [Гюйо 1899, 25].
Однако в третьей главе, где речь идет об «активной форме времени», мы читаем: «Намерение, будь оно произвольное или отраженное, рождает одновременно понятия пространства и времени» [Гюйо 1899, 34]. Прежде чем выяснять, как согласуются у Гюйо предшествование и одновременность, уделим внимание языку, на котором высказаны эти тезисы.
Если восприятие протяженности возникает одновременно с восприятием длительности (или же первое восприятие раньше, а второе позже или наоборот), то время все же получает приоритет над пространством. Иными словами, если в процессе эволюции сначала формируется понятие пространства, а затем времени, то этим уже неявно предполагается порядок их существования. Здесь возникает своеобразный парадокс: утверждая первичность пространства (чувство пространства раньше, чем чувство времени), мы тем самым утверждаем первичность времени. Следует отметить, что само утверждение о предшествовании идеи пространства идее времени становится возможным тогда, когда мы получили уже представление о времени и, в частности, представление о раньше-позже. Ретроспективно мы можем, следовательно, сказать, что представление о времени возникает позже, чем представление о пространстве.
Однако это позже или, соответственно, раньше будут относиться уже к об объективному времени – развитие ребенка, в частности, измеряется в годах и месяцах. В таком-то возрасте у ребёнка возникает представление о пространстве, а позже – о времени. Таким образом, само высказывание о вторичности времени требует времени как условия своей возможности, причем в прямом и в переносном смыслах. То, что неустранимо из рассуждений как их необходимый элемент, как условие их возможности, называют априори. Гюйо и вслед за ним Фулье, подвергая критике кантовское учение, отрицают априоризм времени, однако с априоризмом не так легко разделаться; к тому же он может быть и не кантовского типа. У самого Канта время, а именно «раньше», также появляется до экспликации понятия времени. «По времени, – читаем мы во введении во второе издание Критики чистого разума, – никакое наше познание не предшествует опыту» (B 2). Очевидно, что здесь имеется в виду не время как форма внутреннего чувства или трансцендентальная схема. Несомненно, что у Гюйо также речь идет сначала об объективном времени, а не о чувстве времени, которое, согласно Гюйо, созидается различением и намерением, как мы увидим далее. Как у Канта, так и у его критиков объективное время оказывается необходимым для какого бы то ни было разговора о времени вообще, или, если угодно, для темпорального дискурса.
Объективное время и социальное время как первичный модус объективного является неустранимым во всех рассуждениях о времени, и априоризм времени есть не что иное, как первичность объективного времени по отношению к любым рассуждениям о любом времени – имманентном, экзистенциальном, психологическом и т.д.
Кант не отрицает эмпирической реальности пространства и времени, но в качестве условий возможности познания они – лишь формы чувственности. Гюйо также не отрицает реальности, стоящей «позади» представлений пространства и времени, но для него реальность пространства и времени остается неопределенной. Неопределенным остается у Гюйо и основное понятие – понятие представления, или идеи.
Вопрос о представлениях влечет за собой вопрос о предмете представлений, о том, что же является источником наших представлений пространства и времени? Скрываются ли за представлениями некие реальности, сущности, которые являются нам в виде представлений пространства и времени?
У Гюйо и у Фулье речь идет в первую очередь об идеях, или представлениях, пространства и времени. В этом плане нет ничего парадоксального в утверждении о том, что представление о пространстве у животных (о которых много говорится в книге) и у человека формируется раньше, чем представление о времени. Более того, Гюйо утверждает, и справедливо, что представление о времени требует пространственных образов. Но такой тезис, который Гюйо пытается доказать на различном материале, неявно предполагает все же объективное время. Можно ли отождествить объективное время с реальностью времени? Бергсон в своей рецензии отмечает, что «основной принцип данной теории <…> заключается в рассмотрении времени как реальности, данной или представленной нашему сознанию, и в выяснении того, в силу какого процесса мы начинаем различать в нем прошлое, настоящее и будущее [Бергсон 2010, 242]. Эта точка зрения Бергсона нуждается все же в уточнении: с одной стороны, это отчасти верно, ибо Гюйо говорит о течении времени, а также в другой своей работе отождествляет по существу время и историю, нисколько не сомневаясь в реальности последней. С другой стороны, Гюйо не возводит реальность времени в принцип своей теории. Мы находим у Гюйо скорее позитивистские предпосылки о непознаваемости внешнего и внутреннего мира: «Время и движение суть производные двух существенных факторов: незнаемого внешнего мира и некоторой внутренней деятельности, развертывающейся энергии. Мы не можем знать ни сущности себя самих, ни того нечто, которое существует вне нас и от которого в значительной части производится наше «я»» [Гюйо 1899, 59]. Несмотря на полемику со Спенсером по поводу приоритета времени в человеческом опыте, Гюйо высказывает здесь взгляд, который в целом соответствует предпосылкам философской доктрины английского философа.
В заключении своей книги Гюйо возвращается к вопросу о реальности времени. «Существует ли вне сознания реальность, соответствующая той идее, которую мы составляем о длительности? Есть ли, так сказать, объективное время? У многих время обращалось в какую-то мистическую реальность, долженствующую заменить устаревшую концепцию провидения» [Гюйо 1899, 79]. Время, по Гюйо, не имеет самостоятельной силы. Время не среда и не фактор, это одна из форм эволюции; не время фактор эволюции, но эволюция фактор времени. Время возникает, по Гюйо, благодаря сознанию, и «вначале время так же мало существует в нашем сознании, как и в песочных часах» [Гюйо 1899, 79, 118].
Очевидно, что Гюйо, если и не придает объективному времени значения мистической реальности, но все же ставит их в один ряд. Тем не менее, это весьма разные вещи. Вряд ли кто-нибудь будет всерьёз защищать сегодня идею времени как некой сущности, текучей субстанции, недоступной познанию и все же определяющей наши действия и чувства. Но объективное время не является такой субстанцией, ибо вращение нашей планеты – источник смены дня и ночи и времен года – это не мистическая, но самая реальная из всех реальностей. Именно понятие объективного времени разрешает дилемму между временем как мистической реальностью и временем как нашим представлением.
2. Различение, сознание и «русло времени»
В самой постановке вопроса у Гюйо смешаны традиционные представления о времени и ряд интересных и новых идей. С одной стороны, он принимает в качестве предпосылки «течение времени» и разделение этого течения на настоящее, прошлое и будущее. С другой стороны, он пытается выделить элементы сознания, благодаря которым мы осознаем течение времени и различаем три его измерения. Именно предпосылка «течения времени» сближает Гюйо с традиционными и даже мифологическими представлениями о времени. Свою задачу он видит лишь в том, чтобы объяснить, каким образом мы постигаем это течение, и в первую очередь – каким образом мы отделяем прошлое и будущее от настоящего. Этой задаче предпосылается, однако, другая – выявить элементы сознания, благодаря которым мы осознаем пассивную форму времени, русло, в котором осуществляется его течение, т.е. его активная форма. Само это выделение элементов сознания является плодотворным и весьма ценным, однако неопределенной остается цель, т.е. установление так называемого русла времени.
Это русло времени созидается благодаря аналитической работе сознания, первым моментом которой является discrimination – Гюйо заимствует этот термин из английской психологии. Отметим, что discrimination истолковывается Гюйо как восприятие различий (la perception des differences), но не как само различение: «Восприятие разниц (в русском переводе différence переводится как разница – В.М.) и сходств – первое условие зарождения идеи времени – приводит к понятию двойственности и, вместе с последней, к построению числа <…> Таким образом, – заключает Гюйо, – дискриминация, первоначальный элемент ума, не нуждается для своего проявления в идее времени: напротив, эта идея уже предполагает дискриминацию. Само понятие последовательности, к которому Спенсер сводит время, является производным» [Гюйо 1899, 29-30; Guyau 1890, 22-23]. В этих словах Гюйо содержится верное направление мысли, однако он скорее угадывает его, чем ему дескриптивно следует. Продуктивная идея заключается здесь в том, что различение признается первичным элементом ума, сознания, разума в самом широком смысле. Этот тезис безусловно верен, и он прямо противостоит воззрению, согласно которому первичным элементом сознания является синтез. «Английская школа» здесь явно ближе к истине, чем немецкая. Однако следует указать на недостаточность этого утверждения, даже отвлекаясь от уточнения, что же имеется в виду под дискриминацией – само различение или восприятие различий, т.е. различение как таковое или констатация различий и различенных предметностей в этих различиях. Способность различать можно приписать не только «интеллигенции», но и животному и даже растительному миру. С тезисом, что различение – это первый элемент жизни в определенном плане можно согласиться. Однако здесь следует сделать оговорку, что мы, обладая опытом различения, приписываем этот опыт нечеловеческому миру извне, неявно приписывая животным и растениям способность различать различия, т.е. встраивать различия в определенный контекст, или скорее конституировать контекст благодаря иерархии различений. Сам Гюйо по праву признает, что сознание не может быть чем-то простым, так сказать, двумерным. Тем более это касается аналитической работы, или первоэлемента сознания: здесь различений как таковых явно недостаточно.
Первоэлементом, или первичной структурой, сознания и исходным пунктом аналитической работы является не просто различение, но различение различений. При анализе мы различаем проводимые нами различения, отличая их к тому же от устанавливаемых нами различий между предметами в самом широком смысле. Аналогично брентановскому внутреннему восприятию, которое встроено в первичный акт восприятия и определяет тип последнего, различение различений первичным образом определяет тип и контекст различений. Если у Гюйо, и не только у него, сходство является вторым и независимым элементом сознания, отнесенным к идеям и представлениям, то, с нашей точки зрения, первичное сходство – это сходство различений и различий, из которого берут свое начало предметные сходства. Число в самом деле имеет свой исток в различении, хотя и не в восприятии разниц. Однако у Гюйо связь времени и числа остается не эксплицированной, и аристотелевское определение времени даже не упоминается.
К указанным трем элементам идеи времени (различение, сходство, число) добавляется четвертый – интенсивность или степень. Этот последний элемент несколько проясняет, о чем, собственно, идет речь: различение, сходство, число и степень характеризуют сферу ощущений и чувств (удовольствия и страдания), а также телесных движений (активная сторона). Однако, даже если возможно выделить эту сферу с достаточно разнородным частями, то все же остается вопрос: какое отношение к этим элементам имеет идея времени. Скорее, эти элементы, в особенности телесные движения, конституируют пространство. Более того, трудно назвать сферу жизни и деятельности, которая бы не предполагала наличие этих элементов.
Зачем Гюйо понадобился образ «русла времени»? Видимо, для того, чтобы отделить порядок времени (последовательность) от течения времени (длительность). Порядок времени создается пассивными элементами, его течение – активными, как мы дальше увидим. Однако течение времени – это метафора, а порядок, который создают указанные четыре элемента, не является метафорическим, но в первую очередь пространственным. «Русло времени» – это, конечно, тоже метафора, но она отсылает к неметафорическому пространственному порядку. Если четыре указанных элемента вносят порядок в ощущения, и сам этот порядок должен быть неподвижным (русло не движется), то можно утверждать, что речь идет скорее о «русле сознания», а если обойтись без метафор, то о первичной структуре сознания, благодаря которой может возникнуть ощущение, или чувство, времени, но может и не возникнуть. Таким образом, различение, сходство, число и интенсивность, если следовать рассуждениям Гюйо, могут быть условиями возможности чувства времени, но не реальными причинами его возникновения (разумеется, речь идет о возникновении представлений о времени). При этом остается опять-таки дескриптивно неопределенным само чувство времени. Попытка выделить элементы сознания, ответственные за «русло времени», или тогда уже за чувство русла времени, – это по существу попытка определить условия возможности восприятия движения и разрешить дилемму между гомогенностью и гетерогенностью движения под именем времени. Выделенные элементы сознания должны объяснить то, каким образом мы создаем образ времени – одновременно дискретного и непрерывного. «Дискриминация» дает дискретность, или гетерогенность, сходство – непрерывность, или гомогенность. Интенсивность, или степень, связана, по Гюйо, с понятием момента, который должен мыслится не точечно-математически, но жизненно: «Жизнь – медленная эволюция; каждый момент времени предполагает известную степень активности и чувствительности, увеличение или уменьшение, какое-либо изменение, другими словами – сложное количественное и качественное отношение. Если бы не было разделения, изменения и степени активности или чувствительности, то не было бы времени» [Гюйо 1899, 31]. Смысл сказанного можно выразить короче, как, впрочем, это делает и сам Гюйо: без движения нет времени, время – абстракция от движения, «время, – читаем мы на заключительных страницах книги, – абстрактная формула изменений вселенной» [Гюйо 1899, 80]. Следует, однако, принять во внимание, что у Гюйо речь идет не вообще о движении, но о жизни: каждый момент времени мыслится как интенсивный, как живой. Пи этом Гюйо все же не может избавиться от такой характеристики времени, как «момент», и это указывает опять-таки на неявную предпосылку объективного времени. Явная предпосылка Гюйо – жизнь и энергия, которая порождает время (и пространство), но не сводится к времени. Пространство и время у Гюйо – это скорее первичные формы жизни, непосредственно созидаемые двигательными усилиями и намерениями.
Кажется, что позитивизм в этом плане открывает путь для аналитической работы: мы отказываемся от познания запредельных реальностей (внутренней и внешней), познавая лишь ее проявления, и первичные из них – пространство и время. Однако статус пространства и тем более времени остается неопределенным – или это абстракции, или чувства (Гюйо говорит о чувстве времени), или представления, или, наконец, реальности. У Гюйо присутствует весь этот перечень возможных интерпретаций. Этим как раз интересна книга Гюйо, которая не представляет собой некое систематическое единство, но ряд продуктивных идей относительно пространства, времени и мира, причем мира, в котором мы живем сейчас, в XXI в.
3. Генезис активного времени: пространство или намерение
Несмотря на критическую настроенность в отношении кантовского априоризма, Гюйо незаметно для самого себя (Фулье также этого не замечает) воспринимает, причем с самого начала, основную кантовскую установку, согласно которой «многообразное», т.е. хаос, упорядочивается нашей познавательной способностью, только у Гюйо вместо познавательной способности упорядочивающую роль берет на себя внутренняя энергия – движение и усилие. В отличие от Канта, который предполагает изначальную структурированность познавательной способности, Гюйо пытается представить элементы сознания, особенно такие активные, как намерение и желание, а также действие и претерпевание действия, или страдание, как проявление изначальной энергии жизни. Такая метафизическая предпосылка объясняет несогласованность тезисов Гюйо о первенстве чувства пространства по отношению к времени и об их одновременном возникновении. Когда Гюйо рассуждает как психолог, опирающийся на данные зоологии и детской психологии, он утверждает, что животное и ребенок сначала получают представления о пространстве, а затем о времени, когда же он рассуждает как метафизик, то речь уже идет об одновременном рождении пространства и времени у человека желающего и стремящегося. Внутренняя энергия (на основе, или фоне) непознаваемого внешнего мира созидает как пространство, так и время. Этой доктрине не откажешь в красоте и оригинальности, но она не учитывает, что пространство и время превращаются в таком случае лишь в наши представления, к тому же доктрина ничего не говорит о том, в чем же состоит содержание этих представлений. Когда Гюйо говорит о течении времени, он не говорит, впрочем, не только он, о течении чего идет речь, когда он утверждает, что время абстракция от движения, он ничего не говорит о том, какова функция этой абстракции.
Предпосылка вневременной жизни и энергии, своего рода вечного настоящего, приводит неизбежно к вопросу об условиях и причинах возникновения (опять-таки в сознании) прошлого и будущего. Собственно говоря, в этом и состоит исходный вопрос Гюйо, который он назвал генезисом идеи времени.
Активная форма времени, т.е. течение времени, «распадается в уме у взрослого на три части <…> настоящее, будущее и прошедшее» [Гюйо 1899, 32], утверждает Гюйо, но весьма странным образом оказывается, что ни одна из этих частей не течет. К такому парадоксу приводит образ течения времени наряду с обыденными представлениями о его «частях»: ни настоящее (то, что есть), ни прошлое (то, что ушло и может быть воспроизведено в памяти), ни будущее (которое нас ждет или которого ждем мы) не характеризуются как течение. Однако единство этих элементов признается текущим, так как эти элементы якобы переходят друг в друга: будущее становится настоящим, настоящее – прошлым. Но чем же в таком случае становится прошлое? Если даже утверждать (Гуссерль, Мерло-Понти), что будущее – это будущее настоящее, настоящее – это будущее прошлое, а прошлое – это бывшее настоящее, то это мало продвинет нас в понимании будущего и прошлого.
Время как единство прошлого, настоящего и будущего – это образ, не имеющий точек соприкосновения с опытом. Не единство, но различие в основе любого опыта, и в этом плане можно говорить об опыте различия настоящего и прошлого, настоящего и будущего. Это различные опыты; прошлое и будущее отделяются от настоящего благодаря изменению значимых ситуаций, или пространств.
В своем кратком предисловии Гюйо отмечает, что один из наиболее обоснованных выводов современной психологии состоит в том, что все в нас есть настоящее, даже прошлое. Если мы вспоминаем игры детства, то образы, нами вызываемые, точно так же присутствуют в настоящем, как и вид бумаги, на которой мы записываем абстрактные мысли. «Вещь становится для нас действительно прошедшей лишь тогда, -- пишет Гюйо, -- когда мы теряем о ней всякое сознание; чтобы опять вернуться в наше сознание, она должна из прошедшей снова стать настоящей [Гюйо 1899, 19].
Эта явная предпосылка дальнейших размышлений Гюйо о течении времени требует анализа. Начнем с тезиса, что «все в нас – настоящее» (tout est présent en nous). Если речь идет о том, что каждое актуальное переживание можно считать настоящим или присутствующим настоящим, то это тавтология: каждое актуальное переживание актуально. При этом «все» не может быть актуальным, ибо актуальное восприятие одного предмета становится потенциальным при переводе взгляда на другой предмет. Если принять тезис Гюйо, то тогда любой предмет, исчезающий из поля зрения и внимания, «предмет, о котором мы теряем сознание», становился бы прошлым. В определенном смысле это так – если предметы сводятся к представлениям, а время – к форме их упорядочения. Тогда само упорядочивание представлений превращало бы их в прошлые: каждое представление, терявшее свою актуальность, становилось бы прошедшим, т.е. прошлым. В свою очередь, представления мыслились бы в таком случае как некие квазипредметы, выстраивающиеся в линию, где ряд прошедших представлений был бы привязан к одному – актуальному. Такая точка зрения, которая близка к кантовской (Гюйо здесь незаметно становится кантианцем), опять-таки обнаруживает неизбежность объективного времени: осознание бывшего представления отсылает к объективному раньше, которое, разумеется, нельзя считать чем-то абсолютным, ибо объективное время не является Абсолютом, но фактической необходимостью устройства человеческого мира.
Если же мы не будем сводить предметность к совокупности представлений «о ней», то нужно будут признать, что прошлое имеет объективное основание – смену дня и ночи (вращение Земли), а также чередование бодрствования и сна. Это чередование, а точнее пробуждение, лежит в основе опыта прошлого. Между прошлым и будущим пролегает граница, которая определяется субъективно-объективными факторами. В пробуждении мы имеем как раз совпадение субъективного и объективного в перерыве памяти. «Пробудившись, мы констатируем некоторый перерыв памяти. Немного спустя мы называем те мысли сном, потому что мы их больше не помним» [Пруст 1936, 389].
Cознание прошлого включает в себя как необходимый момент сознание объективного расстояния от вспоминаемого события, т.е. количества совершившихся природных циклов (дней, месяцев, лет). Другими словами, из «одного сознания», будь это сочетания образов, работа воображения и т.д. «прошлое» не выведешь. Оценки давности событий, их последовательность могут быть ошибочными, однако это не иллюзии времени, как это обычно называют, но ошибки (по разным причинам, разумеется) памяти в отношении пространственных циклов.
Гюйо начинает с тезиса о «всем настоящем» потому, что хочет подчеркнуть: образ прошедших событий является настоящим. События уже прошли, а само воспоминание как акт сознания, как переживание, является настоящим, актуальным. Однако какой смысл этого настоящего, этой актуальности? Мы осознаем, что сейчас мы вспоминаем. Согласно Брентано, внутреннее восприятие дает нам возможность зафиксировать определенный осуществляемый нами сейчас акт сознания. Но что такое сейчас, как не определенная ситуация Здесь и Сегодня, т.е. в пространстве, отмеченном знаком объективном времени. Однако переживание нам интересно в той мере, в какой в нем нечто переживается, нечто дано, а в воспоминании дано прошлое, т.е. прошедшее в объективном времени пространство того дня, месяца или года, когда совершались вспоминаемые события. Таким образом, в переживании настоящего, как бы его ни понимать, встроено переживание объективного момента – пространства (ситуации) и времени. Мы вспоминаем о детских играх, воссоздавая пространство детства, ушедшее, бывшее пространство, и мы никак не можем «поместить» его в пространство настоящего, которое доступно восприятию (точнее, суждению восприятия и телесности) и в котором мы действуем: в пространстве сегодняшнего дня или сегодняшней ночи. Мы не можем действовать вчера или завтра, они недоступны для сегодняшних действий.
Гюйо, пытаясь совместить воспоминания о детской игре и восприятие листа лежащей перед ним бумаги, забывает, что воспоминания детства, если это не аномалия, всегда имеют своим истоком какое-либо актуальное переживание, т.е. переживание в настоящем. Эти два настоящих – исходный пункт воспоминания и восприятие вещи (листа бумаги) могут быть объединены в настоящем, и именно потому, что исходным пунктом воспоминания всегда служит восприятие (и у Пруста тоже). Однако вещь, в данном случае бумага, не становится прошлой, если мы отведем от нее взгляд, а наше детство (или юность Марселя) не становится настоящим, т.е. существующим в актуально-телесном пространстве сегодняшних действий и суждений, когда мы в этом пространстве вспоминаем собственное детство, скажем, при взгляде на игру детей. Очевидно, что без отсылки к пространству и ситуации, к объективному времени (само слово детство напоминает об этом) вспомнить прошлое невозможно.
Концепция Гюйо интересна именно тем, что Гюйо связывает память и пространство. Он отмечает, обсуждая проблемы памяти, что вспоминая прошлое, мы локализуем вспоминаемое в пространстве. Он верно указывает, что «в памяти всё, даже длительность, стремится принять пространственную форму» [Гюйо 1899, 63].
Пространство играет исключительно важную роль в концепции Гюйо, ибо с помощью пространства мы не только можем представить себе время, но и отделить настоящее от прошлого и будущего. Бергсон утверждает, что у Гюйо «идея времени вытекает из идеи пространства, а движение служит посредником» [Бергсон 2010, 240]. Он опирается при этом на слова Гюйо: «Движение в пространстве создает время в человеческом сознании» [Гюйо 1899, 50]. Однако движение в пространстве не есть идея пространства, а время, по Гюйо, созидается силами, которые одновременно создают (в сознании) пространство и время.
При этом прошлое не дано нам непосредственно как воспринимаемый предмет, впрочем, разговор о непосредственности подразумевает определенный контекст: любой воспринимаемый предмет находится в определенной среде, точнее, в определенном значимом пространстве, поэтому мы будем лучше различать актуальное пространство восприятия (убежденность в бытии или убежденность в небытии предмета) и потенциальное пространство воображения.
Ф. Брентано ввел различие прямого и косвенного модусов сознания: прошлое дано только в косвенном модусе, т.е., строго говоря, вообще не дано; по Брентано, прошлое имеет такой же онтологический статус, как никогда не существовавшее. Здесь явно имеет место аналогия с прямым и косвенным зрением. Ограниченность этой аналогии состоит в том, что косвенное зрение показывает нам не прошлое, но настоящее. Напротив, воспоминание обращено все же к прошлому. Однако эта аналогия полезна, ибо указывает на пространственный характер вспоминаемого, так как поле зрения – прямого и косвенного – носит пространственный характер.
Итак, исходная проблема состоит для Гюйо в том, чтобы понять, «каким образом удается нам создать и организовать идею времени», если все в нас – настоящее, прошлое – лишь иллюзия, а будущее – это только проекция нашей нынешней деятельности. «Идея времени» сводится, таким образом, к пространственной перспективе. Он сравнивает временную перспективу с работой художника: на плоском полотне тот создает глубину изображения. «Перспектива в живописи есть дело искусства, память – также искусство», – утверждает Гюйо [Гюйо 20; Guyau 1890, 3]. Вопрос теперь в том, имеем ли мы здесь аналогию или даже метафору? Пространственное отношение перспективы переносится на время; или же дело не в метафоре, и Гюйо полагает время особым измерением пространства? Кажется, что текст подтверждает второе: «время является как бы четвертым измерением вещей, занимающих пространство» [Гюйо 1899, 54]. Наряду с расстоянием в его обычном смысле существует особое расстояние, -- полагает Гюйо: «между объектом, которым владеешь, и объектом, которого желаешь» [Гюйо 1899, 54]. Это и есть «расстояние времени», -- утверждает Гюйо. «Часы, дни, годы – все это пустые ящики, в которых мы размещаем все ощущения по мере того, как мы получаем их. Когда эти ящики полны и когда мы можем пробежать весь ряд их, нигде не встречая перерыва, они образуют то, что мы называем временем. Прежде это были подразделения пространства; теперь же накопление ощущений и правильное распределение их в пространстве создало ту видимость, которую мы именуем временем» [Гюйо 1899. 54]. Итак, время – это видимость (apparence). В немецком переводе это слово передано как Erscheinung (явление); это слово имеет более широкий спектр значений и может быть понято и как явление, и как видимость, внешний вид и облик. Однако в любом случае время толкуется здесь как выражение пространственных отношений.
«Слова г. Гюйо о перспективе во времени – это не метафора, – пишет Бергсон. – Дело в том, что он исследует время так, как можно было бы исследовать пространство, и стремится прежде всего описать механизм операции, путем которой мы различаем последовательные планы в этом пространстве нового рода. Стало быть, г. Гюйо действует здесь в духе психологов эволюционистов; он показывает нам постепенную адаптацию познания к его объекту» [Бергсон 2010, 242]. Возражения Бергсона состоят как раз в том, что такой метод «можно применить ко многим психологическим проблемами, но не к проблеме времени» [Бергсон 2010, 242], ибо время – это не предмет, внешний по отношению к сознанию. Бергсон не принял во внимание, что у Гюйо не одно время, и даже не два, как у самого Бергсона, но много времен (многообразие значений термина), и одно из них заимствует у пространства функцию перспективы. Не является ли время совокупностью заимствованных функций? Но почему совокупность этих функций называется именно временем, если память сводится к пространственной перспективе, прошлое к ушедшим пространствам, порядок следования которых мы располагаем на воображаемой прямой? Если время видимость, то как может видимость упорядочивать ощущения? Разумеется, фикции могут выполнять определенную функцию упорядочивания, но осуществляется ли перенос значения (метафора) на фикции?
Когда говорят: «время течет», то метафора создает наглядный образ, но не ставит под сомнение реальность времени. Когда Гюйо использует метафору перспективы («мы можем изобразить себе прошедшее только как перспективу позади нас и будущее, вырастающее из настоящего, как перспективу впереди нас» [Гюйо 1899, 54], он тоже создает наглядный образ. Когда же речь идет о как бы четвертом измерении пространства, то эта метафора уже не создает наглядного образа, но является ли «перспектива» и «четвертое измерение» действительно метафорическим? Осуществляется ли здесь какой-нибудь перенос значения? Гюйо говорит здесь как бы четвертое измерение, но он не говорит как бы перспектива. Таким образом, статус времени остается неопределенным. С одной стороны, время – это вид пространственных отношений, а с другой – видимость. Было бы ошибкой, однако, полагать, что эта видимость имеет объективный характер, т.е. относится к чему-то такому, что показывает себя не таким, каково оно на самом деле или же к тому, что вообще не существует. Видимость относится у Гюйо не к сфере предметности, а к сфере сознания: определенные «процессы» сознания создают время, и в этом смысле время – это видимость. Однако тогда и другие «продукты» сознания нужно было бы считать видимостью.
И все же время у Гюйо не только видимость, не только пространственная перспектива. Основная мысль Гюйо, как мы уже отмечали, состоит в том, что представление о пространстве возникает раньше, чем представление о времени и что представление о времени требует пространственных образов. При этом генезис времени из пространства у Гюйо страдает тем, в чем он упрекает, как мы увидим, современных ему психологов относительно генезиса последовательности: post hoc не есть propter hoc. То, что представление пространства возникает раньше, чем представление времени, не доказывает еще, что причина последнего первое. Строго говоря, отношение пространства и времени представлены у Гюйо не генетически, но структурно; пространство выполняет изобразительную функцию, которая позволяет преодолеть состояние «все в настоящем» и «увидеть перспективу прошлого», а по аналогии и будущего. Время вовсе не сводится у Гюйо к пространству, не является и особым пространством, хотя зачастую это выглядит именно так. Во-первых, Гюйо неоднократно указывает на одновременность возникновения пространства и времени. Во-вторых, и это главное, он все же предпринимает попытку отделить время от пространства, представить время как среду, отличную от пространственной. Пространство лишь средство, «необходимость представлять себе время в пространственной форме вносит нечто устойчивое в беспрерывный поток времени» [Гюйо 1899, 56]. Согласно, Гюйо, кроме внутренних чувств (усилия, движения и т.д.), из внешних чувств более всего слух способствует отделению времени от пространства, пониманию времени как особого измерения. Это связано с тем, что звук, как пишет Гюйо, «лишь очень неопределенно локализуется в пространстве, но зато превосходно локализуется в длительности» [Гюйо 1899, 54]. Что означает, однако, «локализован в длительности»? Мы опять возвращаемся к пространственным характеристикам времени, и не случайно, так как длительность есть не что иное, как особое устойчивое пространство значимости, имеющее свой генезис. Для Гюйо важным является то, что звук невидим и неосязаем; это оказывается достаточным, чтобы сблизить его с временем. «Звук, – пишет Гюйо, – стремится вытолкнуть себя в среду, отличную даже от пространства, аналогичную внутренней среде инстинктивных жизненных влечений (l‘appétit vital), которая и есть время. [Гюйо 1899, 54; Guyau 1890, 74-75]. Допущение существования непространственной среды (в языковом плане это словосочетание, мягко говоря, довольно необычно) времени сближает Гюйо и Бергсона, основные усилия которого были направлены как раз на отделение чистой длительности от всего пространственного.
Генетический, а не структурный подход реализуется Гюйо в связи с понятиями, взятыми из волевой и эмоциональной сферы. Устанавливая порядок представлений, Гюйо выводит чувство времени не из чувства пространства, но, во-первых, из действий-страданий, а во-вторых, из намерений и желаний, т.е. из того, что не является представлением, но скорее реальностью внутренней жизни. Первое касается различия настоящего и будущего (прошлое остается при этом на заднем плане), второе – «течения времени». Само настоящее не есть еще время, утверждает Гюйо. Если бы не это еще, с этим тезисом можно было бы согласиться вполне. Настоящее – это действительно не время, но значимое здесь и сегодня (в объективном времени) пространство. Но у Гюйо этот тезис служит для того, чтобы представить время и его течение как единство настоящего, прошлого и будущего. При этом ни прошлое, ни будущее сами по себе также не могут быть источником представления о различии трех измерений времени. Здесь Гюйо абсолютно прав, ни одно из измерений времени не может быть исходной точкой их различия. Но Гюйо не принимает в расчет, что настоящее, прошлое и будущее, как бы их ни понимать, в каком бы контексте их ни рассматривать, не могут полностью потерять связь с объективным временем – с объективными сегодня, вчера и завтра. Гюйо пытается объяснить возникновение идеи времени в примитивном сознании, ее исходный пункт «нужно искать в действии и страдании, в движении, следующем за ощущением» [Гюйо 1899, 36]. «Идея трех частей времени, -- пишет Гюйо, -- это расщепление (scission, в русс. перев. – разрыв) сознания» [Гюйо 1899, 36; Guyau 1890, 30]. В примитивном сознании представление о времени возникает благодаря разделению состояний страдания и действия (du pâtir et de l’agir). «Когда мы испытываем боль, -- пишет Гюйо, -- и реагируем с целью устранить ее, мы рассекаем время на две части – на настоящее и будущее. Эта <…> реакция, <…> когда она становится сознательной, есть намерение (l"intention); и мы думаем, что намерение, будь оно спонтанное или рефлексивное, рождает одновременно понятия пространства и времени» [Гюйо 1899. 34]. Гюйо незаметно переходит от примитивного сознания к современному, т.е. к «мы». Мы действительно можем, фигурально выражаясь, рассекать время, поскольку мы имеем представление об объективном времени, но ведь речь идет о выявлении генезиса представления о времени. Что же должно рассекать примитивное сознание, когда еще нет такого представления? Когда Гюйо утверждает, что намерение одновременно, или сразу (à la fois), рождает время и пространство, то опять-таки время как одновременность (а это основная функция времени) уже неявно присутствует в описании.
Более того, намерение интерпретируется прежде всего как замена направления и источник идеи пространства, и только затем, по аналогии – как источник времени: «Течение времени сначала есть не более, как различие между тем, что желаешь, и тем, что имеешь; это же различие сводится к намерению, за которым следует чувство удовлетворения» [Гюйо 1899, 35].
Небезынтересно сделать следующее терминологическое сравнение. У Гюйо слово l"intention (намерение) сближается со значением «напряжение», стремление». Разумеется, здесь не может идти и речи о феноменологическом смысле этого термина, хотя бы потому, что он был введен Гуссерлем позже, чем написана книга Гюйо. Брентановский термин «intentionale Inexistenz» (1874) как раз лишен указанных значений. Формальное сходство Гуссерля и Гюйо состоит, однако, в том, что в качестве базисной структуры сознания в широком смысле, включая и волевую сферу, оба философа полагают стремление и его осуществление. Задачи, которые ставят перед собой оба философа, существенно различаются. Гюйо апеллирует к обыденному опыту (расстояние между бокалом и губами), чтобы описать чувство времени, Гуссерль – к рефлексии, чтобы выделить «чистое значение». При этом у Гюйо напряжение между намерением (интенцией) и осуществлением намерения есть не что иное, как время, или чувство времени. У Гуссерля различие между интенцией значения и осуществлением значения вне времени, как объективного, так и имманентного. Парадоксально, но апелляция к непосредственному опыту у Гюйо ближе к феноменологической установке, чем функциональное введение времени у Гуссерля. Сходство, и уже не формальное, состоит в том, что и у Гуссерля, и у Гюйо, время выполняет определенные функции, несмотря на попытки (разные) придать времени онтологический статус (поток сознания или инстинктивные жизненные влечения).
4. Последовательность и время
По Гюйо, идея времени предполагает различение, но не наоборот, и вопреки Спенсеру, понятие последовательности, к которому английский философ сводит время, является производным. Сначала, утверждает Гюйо, нет ни понятия существования, ни последовательности, есть лишь «смешанный и расплывчатый образ многих вещей, окружающих нас» [Гюйо 1899, 30], затем движение и усилие вносит в этот хаос разделение, различение, что создает для нас третье измерение пространства. То же самое нужно сказать о времени.
Гюйо близко подошел к тому, чтобы последовательность отнести к пространственным отношениям. Однако явно он этого вывода не делает, разве что в отношении животных, как мы увидим далее. Психологи, утверждает Гюйо, меняют порядок возникновения времени. Сводя причинное отношение к порядку следования, они, когда речь заходит о времени, считают идею последовательности основой сознания, эта идея заключается в «известном ритме предшествующего и последующего, схваченного в его действии (saisi sur le fait). Отсюда prius и posterius, а также non simul становится конститутивным отношением для «самого представления», «формы представления», формы a priori» [Гюйо 1899, 36; Guyau 1890, 34]. Согласно Гюйо, здесь происходит подмена «первичных фетишей сознания (fétiches primitifs), т.е. фетишей силы, или причины действующей, и цели, или причины конечной» более поздними научными понятиями. Таким образом, по Гюйо, не причинность сводится к последовательности (английская психология явно исходит здесь из Юма), но представление о последовательности возникает из первичных импульсов силы и стремления. Гюйо, а вслед за ним и Фулье, пытаются на основе такой аргументации опровергнуть априоризм времени. Следует, однако, принять во внимание, что генетический подход в целом не противоречит априорному. Если мы описываем структуру сформировавшегося сознания, то, вслед за Кантом, мы должны допустить определенные структуры сознания (не обязательно следуя в определенности этих структур Канту), логически предшествующие конкретному опыту. Сам Гюйо так и поступает, выделяя указанные выше элементы сознания и не замечая при этом, что он вводит априоризм, причем не кантовского типа, т.е. не основанный на синтезе. Однако рассуждения Гюйо и его стремление осуществить генетический подход в отношении последовательности полезны в другом отношении. Они указывают на предпосылки априоризма времени, который строится на допущении временного характера последовательности.
Если же речь идет о генезисе представления о последовательности, то апелляция к животным вряд ли окажет существенную помощь. У Гюйо такая апелляция не убедительна и выглядит иногда забавной, когда, например, он сравнивает животных с известными философами (но, конечно, не философов с животными): «Животное практикует только философию Мэн де Бирана: оно чувствует и делает усилие; оно еще недостаточно математик для того, чтобы думать о последовательности, тем менее о постоянной последовательности и еще менее о необходимой последовательности. Отношение предыдущего к последующему, prius к posterius, вырабатываются только в результате рефлексивного анализа» [Гюйо 1899, 36; Guyau 1890, 35].
Зародыш времени – в примитивном сознании, в форме силы, в форме напряжения, полагает Гюйо, а затем, как только это сознание отдает себе отчет о том, чего оно хочет, – в форме намерения (l’intention). Время сводится к чувствительности и моторной активности, оно не отделяется от пространства. Однако и тогда время встроено в чувственное восприятие и моторную активность и при этом оно неотделимо от пространства. «Будущее, – пишет Гюйо, – это то, что находится впереди животного, и что оно стремится взять; прошедшее – это то, что находится позади и чего животное более не видит; вместо того чтобы с ученой изобретательностью создавать пространство из времени, как это делает Спенсер, животное смело создает время с помощью пространства, оно знает лишь prius и posterius протяжения. Моя собака из своей конуры замечает принесенную мной полную миску: это будущее; она выходит из конуры, движется впереди, по мере того, как она приближается, ощущения конуры удаляются <…> конура находится теперь позади нее и она более не видит ее: это прошедшее» [Гюйо 1899, 36; Guyau 1890, 35]. Итак, будущее впереди, прошлое позади, но где же настоящее? Здесь, как и раньше, мы явно сталкиваемся с неадекватным описанием опыта. Сначала Гюйо говорит, что всё есть настоящее в нашем сознании, теперь же настоящее исчезает вообще, по крайней мере, у его собаки. Если же обратиться к человеческому опыту, то будем ли мы считать, что солонка, которой мы воспользовались и отложили в сторону – это прошлое, а ложка или вилка, которыми мы собираемся воспользоваться – это будущее? Настоящее превращается в миг, как это не раз уже случалось в учениях о времени. Такое настоящее Гюйо по праву отвергает: «Эмпирическое настоящее – это отрывок длительности, имеющий в реальности прошедшее, настоящее и будущее» [Гюйо 1899, 33]. Однако удвоение настоящего не приближает нас к пониманию его действительной природы. Можно и нужно согласиться с тем, что эмпирическое настоящее, т.е. настоящее как опыт, сопряжено с будущим и прошлым и даже включает в себя будущее и прошлое. Иными словами, настоящее вбирает в себя прошлое и «чревато будущим». Однако любая попытка определить настоящее как момент времени приводит или к тавтологии, или к отрицательным определениям: это не прошлое и не будущее, и в конечном итоге – к «математической» точке. Выход из этой ситуации, устраняющий как математическое настоящее, так чрезмерные обобщения типа «всё настоящее», состоит в том, чтобы признать настоящее пространственной характеристикой опыта, а прошлое и будущее – соответствующими проекциями наших сегодняшних действий и стремлений. Причем сознание прошлого в этом смысле мало отличается от сознания будущего: мы вспоминаем то, что прямо или косвенно имеет отношение к сегодняшней ситуации, даже когда мы, в соответствии с одним из парадоксов О. Уальда, вспоминаем то, что никогда с нами не случалось. Прошлое отличает определенность (пусть даже неопределенная) совершенных действий, причем сознание прошлого обязательно включает в себя сознание объективного времени, пусть неявно, пусть ошибочно и смутно. Сознание прошлого формируется не благодаря непознаваемому внешнему миру и нашей внутренней энергии, но благодаря нашему опыту и сознанию наших действий на фоне постоянной смены дней и ночей, месяцев и лет. Также и будущее как сознание возможных значимых пространств невозможно без того или иного соприкосновения (пусть фантастического) с объективным временем. Но ни настоящее, ни прошлое, ни тем более будущее не сводятся к объективному времени и его мерам, ибо последнее есть лишь способ сопоставления пространств и движений. Настоящее может быть интерпретировано как отрезок объективного времени, например как сутки, но по сути своей настоящее – это телесно-пространственно-смысловая ситуация, в основе которой, как мы увидим далее, лежит суждение, и которая может включать в себя и намерение, и память, и восприятие, и размышление, и эстетическое удовольствие, и нравственное чувство и т.д. Настоящее связано со сменой дня и ночи, более того, в основе настоящего – как раз и «лежит» различие дня и ночи. Полчаса – это не тридцать минут, как справедливо заметил Хайдеггер. Мы можем соотносить настоящее с отрезком объективного времени, но кайрос не измеришь в минутах или в метрах. Кайрос характеризует пространство значимости и пространство смысла.
То, что различение лежит в основе времени и последовательности, абсолютно верно; то, что последовательность производна, и «до времени» – с этим можно также согласиться, правда, учитывая неадекватность временного языка. Но каким образом из различения может возникнуть последовательность, этот вопрос является более сложным. Гюйо ограничивается утверждением, что «последовательность есть абстракция двигательного усилия», совершаемого в пространстве» [Гюйо 1899, 36], однако и возникновение представлений о пространстве Гюйо объясняет двигательным усилием.
Здесь следует разделить по меньшей мере два направления исследований: психологическое, направленное на формирование представления о последовательности у детей и взрослых, и философское, предмет которого – условия возможности таких представлений. В обоих случаях один из основных вопросов, если не основной, состоит в том, является ли последовательность пространственным отношением или временным. Этот вопрос связан, в свою очередь, со следующим вопросом: существуют ли чисто временные отношения, не привязанные к пространству, не являющиеся, говоря более строго, модификацией пространственных отношений.
Обычно последовательность и длительность, наряду с одновременностью, считают видами временных отношений. Отношение предшествующий-последующий (proteron-hüsteron) сразу же интерпретируют как ранний-поздний, или раньше-позже. Разумеется, отношение предшествующий-последующий может быть интерпретировано в определенном контексте как отношение раньше-позже, но в самом этом отношении нет ни раньше, ни позже. Речь идет, разумеется, об опыте: при осознании, что одно нечто предшествует другому нечто, не обязательно устанавливается отношение, что предшествующее (первое) нечто раньше, чем последующее (второе). Говоря точнее (учитывая, что сознание – это различение различий), при различении предшествующего и последующего не обязательно проводится различие между раньше и позже. Это происходит только тогда, когда мы связываем различие предшествующего и последующего с объективным временем. Когда же мы различаем раньше и позже, это различие с необходимостью отсылает нас к различию предшествующего и последующего. Последнее различие является пространственным различием. «Со стороны» эти различия равнозначны, но в опыте, аналогично отношению Здесь и Теперь, пространственное отношение предшествования и следования является самостоятельным. Отношение раньше-позже, которое можно назвать временным, так как имплицитно оно связано с объективным временем, несамостоятельное.
Последовательность как опыт не сводится к отношению предшествования и следования. Такое сведение опять-таки характеризует взгляд на последовательность «со стороны» и представляет собой тавтологию. Анализ опыта последовательности показывает, что этот опыт сложнее, чем констатация, что за первым объектом следует второй, затем третий и т.д. В этот опыт входит прежде всего различение и идентификация различений. Сюда относятся также акты идентификации предметов или движений – членов последовательности. Наблюдаемая последовательность подталкивает к сведению последовательности к отношению раньше-позже; осуществляемая последовательность движений, скажем движений тела, указывает на более сложный характер опыта последовательности. Сознание последовательности – это сознание предмета или движения как части подвижного целого, где следование означает замену этого предмета или движения в рамках общего значимого пространства этого целого иным подобным предметом или движением, принадлежащим этому целому. При этом выстраивается ретенциально-протенциальное пространство уходящего-приходящего, где актуально воспринимаемый, т.е. идентифицируемый в суждении восприятия предмет, является границей (которую необязательно представлять в виде линии) между прошлым и будущим (уходящим и приходящим предметами в их пространствах значимости). Когда мы наблюдаем за проходящим поездом, мы выделяем (различаем) целостность предмета, которому принадлежат идентифицируемые части этого целого – вагоны. Замена одного вагона другим в нашем поле зрения при осознании целостности предмета, при удержании непосредственно удаляющегося и предвосхищении непосредственно приближающегося вагонов конституирует значимое пространство последовательности.
Опыт последовательности возникает, однако, не только из зрительных восприятий и наблюдений, но и из слуховых восприятий (суждений восприятия), а также из телесных движений, которые, как мы увидим далее, также можно назвать суждениями. Одним из основных движений человеческого тела, которое дает опыт попеременного движения, является ходьба. Ходьба – это опыт последовательности («по следу своему»), в котором реализуется различение, идентификация, замена, удержание «уходящего» шага и предвосхищение «приходящего». Разумеется, не только ходьба, но и многие другие движения создают чувство ритма и последовательности.
Опыт длительности – существенной иной. Прежде всего, длительность, как правило, эмоционально значима. Последовательность может быть эмоционально и ценностно нейтральной, длительность практически всегда не безразлична – как желание продлить мгновение или избавиться от назойливости, в частности, звука. Для слушающего музыка не представляет собой длительности, здесь нет «долго» или «быстро» (разве что оценка импровизации). Для того, кто слушает «чужую» музыку, «чужой» звук (или плохое исполнение), возникает длительность. «Продлить мгновение» можно было бы оставить поэтам, если бы не общее между «продлить» и «избавиться»: и в том, и в другом случае речь идет о деформации пространства значимости, которая создает особый род напряжения. Длительность как таковая есть нечто отрицательное, ибо мир значимости дискретен. Как нечто начавшееся и не предполагающее в себе завершения, длительность как в позитивном, так и в негативном модусе, аномалия в жизненном мире. Речь опять-таки идет об опыте длительности, если угодно, о переживании длительности, но не о наблюдении за идентифицированной в качестве объекта длительностью «со стороны», наблюдении, которое вполне может обходиться без оценок и эмоций. Очевидно различие между акустическим исследованием длящегося звука и вторжением в значимое пространство (в том числе и в музыкальное) постороннего стабильного звука, от которого хотят поскорее избавиться. Длительность агрессивна, она вытесняет и заменяет упорядоченное и сложное пространство значимости, как бы вытягивает его в одну линию, концентрирует на ней внимание, создает так называемое «чувство времени» – нетерпение, спешку, напряжение, страх.
Попытка Гуссерля изучать длительность звука как гилетическое данное представляет собой по существу конструирование наблюдения за внутренним опытом «со стороны» и тем самым «выходит за пределы опыта», т.е. за пределы переживания (даже в гуссерлевском смысле). Попытка Бергсона представить длительность как глубинную основу опыта – это другая крайность, также выходящая за пределы опыта, но уже не эмпирически наблюдаемая, а мистически схватываемая.
В этих попытках есть нечто общее (несмотря на существенные различия): длительность предстает как чисто временная, непространственная структура, каковой она может действительно стать, однако только за счет разрушения пространства. Именно в длительности проявляется агрессивная сущность времени, пожирающая пространства и ценности. Разумеется, это метафора, ибо нет никакой сущности времени, тем более агрессивной, но есть агрессивные люди и сообщества, подчиняющие человеческие пространства чуждому для них ритму, разрушающие сложные иерархии значимости за счет введения и навязывания единых принципов и стандартов.
V. Пространство значимости и пространство наглядное
Идея Гюйо относительно генетического первенства пространства и его роли в возникновении представлений о времени представляется бесспорной в самой общей формулировке. Вопрос, однако, в том, что Гюйо понимает под пространством. Строго говоря, Гюйо относит генезис времени не к пространству, но к действию-страданию и намерениям. Пространство у Гюйо играет роль структурного и наглядного изображения времени: перспектива, прямая и т.д. В генетическом плане пространство в его концепции неотличимо от времени: и то, и другое созидается намерением и телесным действием. Казалось бы Гюйо предвосхищает в отношении дескрипции пространства Мерло-Понти, однако его пространство не получает статус смыслового, оно остается неопределенным представлением геометрически-физического пространства.
Ребенок позже получает представление о времени, чем о пространстве, – утверждает Гюйо, опираясь на работы современных ему психологов. При этом речь идет о том, что ребенок начинает раньше ориентироваться в пространстве, чем располагать события в порядке их свершения. Гюйо утверждает, что пространство мы воспринимаем непосредственно, тогда как время требует воспроизведения представлений и понимания того, что «данное представление есть воспроизведенное представление» [Гюйо 1899, 25]. «Чтобы воспринять протяжение, животному стоит только открыть глаза: это актуальное и интенсивное зрелище» [Гюйо 1899, 25; Guyau 1890, 12].
Гуссерль тоже полагал, что для восприятия пространства достаточно открыть глаза (подразумевается – взрослому): «если мы открываем глаза, то мы смотрим в объективное пространство» [Гуссерль 1994 7, 5]. Однако протяжение, или протяженность, а также объективное пространство – это абстракции, видеть которые не могут ни дети, ни животные, ни взрослые. Что же мы видим, когда открываем глаза, причем, обычно это бывает после пробуждения? При ответе на этот вопрос важно не смешивать сам опыт и реконструкцию опыта как результат наблюдения за опытом «со стороны». Однако сам вопрос еще требует уточнения. Зрение и слух, а в некоторых случаях осязание и ощущение запаха являются фоном, на котором происходит идентификация ситуации и самоидентификация. Если ограничиться зрением, то можно было бы сказать, что мы видим предметы (вещи и других людей) в пространстве, но это утверждение как раз и было бы результатом наблюдения со стороны, но не описанием опыта изнутри. Мы не видим ни пространства (протяжения), ни предметов в «пространстве» – тогда они должны были бы быть «внутри» протяженности, т.е. внутри абстракции. Когда мы открываем глаза, мы видим не часть геометрического или физического пространства (комната, вагон поезда, палатка и прочее – это не части пространства физики, хотя, конечно, при желании их можно превратить в объем и массу), скорее мы понимаем, различаем с помощью зрения иерархию значимостей, значимые ситуации, определенную совокупность которых мы можем назвать значимым пространством. Пространство не является ни результатом рефлексии, ни объектом непосредственного созерцания. Пространство – это скорее коррелят понимания, ноэма определенного мира, если использовать термин Гуссерля.
Вещи также не являются ни массами, ни энергиями, ни комплексами элементарных частиц, ни комплексами ощущений, но значимыми предметами, сопрягаемыми с телесностью, предметами обихода, предметами специального назначения, например видом транспорта, инструментами деятельности или исследования. Все эти типы вещей «живут» в соответствующих мирах, или пространствах, видеть которые мы не можем, но мы можем понимать, в каком мире, в каком пространстве мы находимся.
Мы не можем видеть протяженности, ибо это абстракция, причем абстракция от объема вещи, а точнее, это представленный наглядно объем вещи, расширенный до бесконечности (res extensa). Мы видим всегда часть значимого пространства, но ту часть, посредством которой мы понимаем целое, т.е. значимое пространство «здесь». «Здесь» всегда частично, и это основная черта опыта – частичность. В отличие от «Здесь», «Теперь» абсолютно, ибо выходит за пределы опыта. «Теперь» – это абстракция.
Когда мы открываем глаза, мы видим не просто вещи вокруг нас, но «вещи как», т.е. вещи как функции, или, лучше, вещи как значимости: вещь как стол, вещь как стул, вещь как книгу, вещь как шкаф и т.д. Опять-таки, мы видим не просто стол, но стол письменный или обеденный или журнальный и т.д. И опять-таки, не просто такого рода столы, но столы, которые имеют для нас определенную значимость, это наш письменный стол, на котором лежит книга, открытая на такой-то странице и т.д. В этом и состоит вопрос, что же мы видим, ибо функциональность вещей мы видеть не можем, тем более мы не можем видеть связи их функций и функциональные отсылки, когда одна вещь–функция отсылает к другой вещи-функции или к своей части; например, книга отсылает к другой книге или к определенной странице. Однако остается привычное выражение: «мы видим предмет», которое употребляется и в более общем смысле: мы видим суть, мы усматриваем то-то и то-то. Зрение, видение уже с античных времен становятся синонимом понимания. Знаменитое немецкое Anschauung – кульминация возведения зрения на предельную высоту в иерархии познавательных способностей.
Почему именно зрение, а не слух или осязание? На этот вопрос обычно отвечают так: зрение дает наибольшее количество информации о мире. Но древние греки и немцы XVIII-XIX вв. ничего не знали о «количестве информации», кроме того, генетически у младенца именно осязание, вкус, обоняние играет более важную роль, чем зрение. С возрастом зрение берет свое в нашей всецело пространственной жизни: зрение лежит в основе понимания дистанции, направления, ориентации, хотя слух и осязание может служить тем же целям и, как известно, в определенной степени заменять зрение. Но зрение – это трансцендирующая способность, благодаря которой мы различаем внутреннее и внешнее, принадлежащее и не принадлежащее нашей телесности. Зрение – свидетель многообразия пространств. Благодаря осязанию мы также можем отличить свое тело от тел других людей и от вещей, но не от «мира». Только благодаря зрению мы в полной мере осознаем перспективизм и многообразие внешних и окружающих миров. В этом плане можно говорить о первичных и вторичных органах чувств. Органы чувств телесны, их функции: зрение, осязание и т.д. – суть проекции тела, конститутивные элементы первичного понимания окружающего мира, лучше даже сказать, предпонимания мира.
Зрение, осязание, слух, обоняние и вкус – дополняющие конститутивные элементы пространства (все они несут функцию самосохранения). Они суть формы пространственности, которые дают нам не комплексы зрительных, тактильных и слуховых ощущений, но открывают нам пространство предпонимания: пространство различных форм, цветов, твердого и мягкого, звуков и т.д. Однако мир осуществляется нами не столько в виде форм, цветов, звуков и т.д., и даже не столько в виде восприятия или действий с предметами, сколько в виде значимых ситуаций, иначе говоря, значимых пространств. Предметы в равной степени указывают на ситуацию, как и ситуация выделяет из себя значимые для этой ситуации предметы. Это можно назвать первичным аналитико-герменевтическим кругом. Ни часть (предмет), ни целое (ситуация) не является первичным элементом опыта, первичным элементом является различие предметов как структурных единиц ситуации.
Можно было бы сопоставить этим мирам-пространствам модусы интенциональности; следуя Гуссерлю и используя его терминологию, можно было бы построить иерархию ноэтико-ноэматических корреляций. Однако это дает нам, с одной стороны, не слишком много: в основном, названия соответствующих актов сознания. Видимо, по этой причине Хайдеггер вообще отказался от поиска и исследования таких корреляций. С другой стороны, можно было бы утонуть в бесчисленных названиях бесчисленных направленностей сознания. Можно было бы выделять, например, транспортную, инструментальную, сельскохозяйственную и т.д. интенциональности, причем внутри каждой из них обнаруживался бы целый ряд модусов: «транспортная интенциональность» распадалась бы на троллейбусную, автобусную, самолетную, железнодорожную и т.д. Каждая из последних делилась бы вплоть до «последнего троллейбуса». В таком нисхождении от родовой сущности сознания до конкретной вещи нет ничего логически неверного, однако такого рода перечисление мало способствует исследованию ноэтической стороны корреляции. По существу у Гуссерля здесь воспроизводится кантовская мифология способностей: за каждым предметом и познавательным действием открывается соответствующая «познавательная сила», названная модусом интенциональности. Существенное отличие состоит в том, что Гуссерль перенес обработку чувственности «внутрь» интенциональности.
В этом плане английская школа эмпиризма, на которую опирается Гюйо и которая считает discrimination основным свойством сознания, ближе к истине, чем послекантовская немецкая философия, берущая свое начало в кантовском учении о категориях как слепых синтезах души. Если же считать первичной структурой сознания не различение, но различение различений, то коррелятивной стороной выделяемых ситуативных пространств будет каждый раз особая иерархия различений, которая, собственно говоря, и устанавливается различением различений.
Время – это результат воспроизведения представлений, – утверждает Гюйо, однако пространство, вопреки Гюйо, тоже нельзя воспринять непосредственно. Мы создаем образы пространства с помощью определенных геометрических форм. При этом восприятие геометрической формы не есть восприятие пространства; геометрическая форма есть изображение пространства, его заменитель, эрзац, хотя и не случайный. Дело при этом не только в землемерии или разделе земельных участков. Так же как любое представление о времени так или иначе связано с объективным временем, так и любое пространство (и здесь речь идет не о представлении пространства, но о различных значимых пространствах), связано с физическим пространством нашей планеты. Сила тяготения обусловливает форму возводимых сооружений. Какой бы формы ни были стены и потолок, пол остается всегда горизонтальной плоской поверхностью (если это не специальный случай, например на театральной сцене), да и стены, как правило, возводятся вертикальные. Это связано не в последнюю очередь со строением человеческого тела и прямой походкой. Народы, живущие в горах, создают для жилища и сельского хозяйства горизонтальные поверхности. Физическое пространство (не пространство математической физики, а реально действующие на тело силы тяготения, вращения, столкновения, торможения, ускорения и т.д.) является первоосновой любого значимого пространства жизненного мира. Само собой разумеется, что первичное жизненное пространство не состоит только из поля тяготения и человеческих тел как физиологических организмов, в него включается вся жизненно-важная среда обитания, как естественная, так и искусственная. Однако сила тяготения и строение человеческого тела, заключающее в себе все пространственные различия-направления: верх-низ (голова-ноги), впереди-сзади (грудь–спина), левое-правое (левая и правая руки) – способствуют в ходе создания искусственной среды формированию геометрических образов пространства. Трудно сказать, какие образы пространства возникали бы у животных, особенно у тех, которые живут на деревьях, если бы они вообще могли возникать.
Пространство как иерархия значимости конституируется вполне зримой человеческой телесностью и деятельностью. Тем не менее, пространство значимости нельзя увидеть или ощутить с помощью каких-либо органов чувств, также как нельзя увидеть значение слова. В обоих случаях существует материальный субстрат: в случае слова – это его физическая сторона – слышимый звук голоса, видимый шрифт и т.д., в случае смыслового пространства жизненного мира – это конкретное физическое (включая сюда и искусственное) пространство местонахождения, телесная активность (как наблюдаемая со стороны, так и конститутивная) и вещеобразная среда. Наглядно можно представить только элементы материального субстрата пространства значимости, и при этом с помощью другого пространства – геометрического.
Гюйо говорит о телесном и волевом источнике представлений о пространстве и времени – в этом актуальность и значимость его концепции, но Гюйо все же ставит вопрос о генезисе пространства и времени только как вопрос о генезисе наглядных представлений. У Гюйо источник является реальным, а результат – наглядным и не более. Открытие феноменологии состоит как раз в том, что любой вопрос о генезисе – это вопрос о генезисе смысла. Это касается в первую очередь вопроса о происхождении пространства и времени, а также о происхождении времени из пространства, намерений, желаний и т.д.
Примечания
Бергсон 2010 – Бергсон А. Избранное: Сознание и жизнь. М: РОССПЭН, 2010
Гуссерль 1994 – Гуссерль Э. Феноменология внутреннего сознания времени. М.: Гнозис, 1994
Guyau 1890 – Guyau J.-M. La Genèse de l’idée de temps. Paris, 1890.
Гюйо 1899 – Гюйо Ж.-М. Происхождение идеи времени. Перев. И.К Брусиловского. СПБ: Народная польза, 1899.
Гюйо 1900 – Гюйо Ж.-М. Собр. соч. т.5. Искусство с социологической точки зрения. СПб.: Народная польза, 1900
Пруст 1936, 389 – Пруст М. В поисках утраченного времени. Т.3. Германт. Л., 1936.