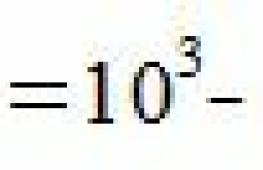С помощью каких инструментов дмитрий шостакович имитировал. Камерно-инструментальная музыка Д.Д
Творчество Дмитрия Шостаковича великого советского музыкально-общественного деятеля, композитора, пианиста и педагога кратко изложенное в этой статье.
Творчество Шостаковича кратко
Музыка Дмитрия Шостаковича разнообразна и многопланова по жанрам. Она превратилась в классику советской и мировой музыкальной культуры XX столетия. Значение композитора как симфониста огромно. Он создал 15 симфоний с глубокими философскими концепциями, сложнейшим миром человеческих переживаний, трагическими и острыми конфликтами. Произведения пронизаны голосом художника-гуманиста, борющегося против зла и социальной несправедливости. Его неповторимый индивидуальный стиль подражал лучшим традициям русской и зарубежной музыки (Мусоргскому, Чайковскому, Бетховену, Баху, Малеру). В Первой Симфонии 1925 года проявились лучшие черты стиля Дмитрия Шостаковича:
- полифонизация фактуры
- динамика развития
- частичка юмора и иронии
- тонкая лирика
- образные перевоплощения
- тематизм
- контраст
Первая симфония принесла ему известность. В дальнейшем он научился сочетать стили и звуки. Кстати, Дмитрий Шостакович имитировал звук артиллерийской канонады в своей 9-й симфонии, посвященной блокаде Ленинграда. Как Вы думаете, с помощью каких инструментов Дмитрий Шостакович имитировал данный звук? Сделал это он при помощи литавр.
В 10-той симфонии композитор внедрил приемы песенных интонаций и развертывания. Последующих 2 произведения ознаменовались обращением к программности.
Кроме того, Шостакович внес свой вклад в развитие музыкального театра. Правда, деятельность его ограничивалась редакционными статьями в газетах. Опера Шостаковича «Нос» была настоящим оригинальным музыкальным воплощением повести Гоголя. Она отличалась сложными средствами композиторской техники, ансамблевыми и массовыми сценами, многоплановой и контрапунктической сменой эпизодов. Важным ориентиром в творчестве Дмитрия Шостаковича была опера «Леди Макбет Мценского уезда». Она отличалась сатирической остротой в характере негативных персонажей, одухотворенной лирикой, суровым и возвышенным трагизмом.
Также влияние на творчество Шостаковича имел и Мусоргский. Об этом говорит правдивость и сочность музыкальных портретов, психологическая углубленность, обобщение песенных и народных интонаций. Все это проявилось в вокально-симфонической поэме «Казнь Степана Разина», в вокальном цикле под названием «Из еврейской народной поэзии». Дмитрию Шостаковичу принадлежит важная заслуга в оркестровой редакции «Хованщины» и «Бориса Годунова», оркестровке вокального цикла Мусоргского «Песни и пляски смерти».
Для музыкальной жизни Советского Союза крупными событиями было появление концертов для фортепиано, скрипки и виолончели с оркестром, камерных произведений, написанных Шостаковичем. К ним относят 15 струнных квартетов, фуги и 24 прелюдии для фортепиано, трио памяти, фортепианный квинтет, циклы романсов.
Произведения Дмитрия Шостаковича — «Игроки», «Нос», «Леди Макбет Мценского уезда», «Золотой век», «Светлый ручей», «Песнь о лесах», «Москва — Черёмушки», «Поэма о Родине», «Казнь Степана Разина», «Гимн Москве», «Праздничная увертюра», «Октябрь».
25 сентября исполнилось 110 лет со дня рождения Дмитрия Шостаковича – великого русского композитора, музыкального новатора и автора множества симфоний, камерных произведений и опер. Отмечая юбилей, Звуки публикуют рассказы музыкантов и композиторов о судьбе и музыке Шостаковича, и отмечают, как музыка советского гения дает сегодня самые неожиданные ростки на почве театра, музыки и взглядов на русскую историю XX века.
Максим Шостакович, дирижер, сын Дмитрия Шостаковича
Мне кажется, что одного композитора с такой фамилией вполне достаточно. А потом, я помню слова отца, который говорил, что писать музыку нужно тогда, когда ты не можешь ее не писать. А если можешь не писать, не пиши. Все-таки в этом что-то есть.
У меня такое ощущение, что музыку создает Бог, а великие композиторы — это пророки. Они записывают уже сочиненную Богом музыку. Между прочим, в письмах отца это есть. Он пишет: «Ночью спал и услышал часть симфонии. Встал утром, записал”. Как это можно объяснить, скажи мне, пожалуйста? Это, конечно, высшее предзнаменование.
Кто-то меня спросил однажды, сколько денег мой папа получал за симфонию? Видя, как работает отец и что значит для него искусство, я ответил: "Да если бы ему сказали, что, наоборот, он должен платить, он платил бы". Он не мог не писать. Нанялся бы дворником, чтобы заработать деньги и купить себе право писать. Музыку он писал в любой обстановке, ему ничего не мешало. Он не переставал писать ту музыку, которую слышал внутри. Даже если мы, дети, шумели. Но культа отца в семье никогда не было. Он был замечательным отцом.
Я считаю своим долгом играть музыку отца. В каждый концерт я вставляю его произведение. Это мой сыновний долг. Я не могу без этого. 25 сентября я всегда дирижирую в Большом зале Петербургской филармонии.
Антон Батагов
Когда мне было 15 лет, у меня был письменный стол. На нем стоял портрет Шостаковича. Это был мой любимый композитор. Музыка, написанная до ХХ века, меня тогда не очень интересовала, а вот понятие "ХХ век" было для меня практически равно понятию "Шостакович". Именно Шостакович стал тем рентгеновским аппаратом, который запечатлел ХХ век с предельной достоверностью, подробностью и неумолимой силой. Страх, смерть и энтузиазм, из которых было построено победоносное здание так называемого коммунизма – только один слой этого снимка. Эта музыка - гораздо больше, чем просто советская летопись. Вот мы уже давно живем в XXI веке, и наблюдаем, как мир, не выучивший уроки ХХ века, шествует по тем же граблям, которые теперь бьют гораздо сильнее. И вряд ли что-либо из написанного в ХХ веке может стать более точным саундтреком для этого шествия, чем музыка Шостаковича.
Анджело Бадаламенти
Однажды, еще в младших классах средней школы, я отправился на Манхэттен, чтобы купить классические пластинки. Я купил различные записи Стравинского, Прокофьева и Шостаковича и заслушал их до дыр. Позже, уже в сознательном возрасте - когда мы начали работать с Дэвидом Линчем над "Синим бархатом" он сказал мне: "Нужна главная тема с русским звуком". У него была идея использовать "Пятую симфонию" Шостаковича - права на ее использование стоили не очень дорого. Потом он спросил: "Может быть, ты можешь написать что-то похожее?". Я говорю: "Речь о Шостаковиче, моём любимом композиторе. И хотя я даже вполовину не так хорош, как он, я могу написать музыку в такой стилистике". Я полетел в Лос-Анджелес и написал главную тему фильма. Получилась странная, красивая мелодия с русским духом.
Павел Карманов
Шостакович - в советской музыке примерно, как Малер - в западноевропейской. Для многих людей именно музыка Шостаковича ассоциируется с советским режимом, сталинскими репрессиями, ГУЛАГом. Именно Шостаковичу, в силу его выдающегося гения, лучше, чем кому-либо удалось передать в музыке атмосферу советской России начала века, последующие войну и сложность восстановления общества и жизни из разрухи.
Бернард Хайтинк, дирижёр, обладатель премии "Грэмми"
4-я симфония Шостаковича – невероятный монстр: они массивна, технически сложна, а первая часть в ней длится около получаса. Есть огромные куски невероятного музыкального напряжения, а потом все вдруг успокаивается и музыка сменяется на меланхоличные задумчивые пассажи – не громче камерного оркестра. Когда я рассказал об этом Шостаковичу (дирижер и композитор встречались в Амстердаме в 1975 году – прим. Звуков), он сказал, что и не думал – будто эта часть так хорошо получилась. При всей меланхолии, которой пропитан финал этой симфонии, она – не отражение личности Шостаковича. Он слишком большой музыкант, чтобы быть несчастным. Иногда его музыка депрессивна и навевает печаль, но Шостакович смотрел на мир с сарказмом и своим особым чувством юмора, скрывая себя истинного.
Изабель Караян, дочь дирижера Герберта фон Караяна
Симфонии Шостаковича я знала и любила всегда. Особенно, конечно, те, которые регулярно исполнял мой отец. Он был для отца очень важной фигурой. Папа даже как-то сказал: "Если бы я писал музыку, я писал бы как Шостакович". Думаю, что их объединяла такая внутренняя напряженность, почти судорога, и некий духовный раскол, который Шостакович преодолевал, создавая музыку, а отец — дирижируя. Кстати, их восхищение было взаимным. Мне кажется, что суть феномена Шостаковича — это та невероятная сила и стойкость, которые позволили ему исполнить свое предназначение, несмотря ни на что. Он сказал именно то, что хотел сказать. И если ему приходилось порою прятать или шифровать иные сокровища своего творческого гения, то обязанность слушателя — дать себе труд их понять.
Валерий Гергиев
Многие думают, что можно вычеркнуть советскую действительность, но мне совершенно ясно, что делать этого нельзя. Те великие симфонии, которые написаны в Советском Союзе, нравится это кому-то или нет, они же звучат. Балетные или оперные произведения или даже просто редакции тоже. "Леди Макбет" - это 30-е годы, а исполнение "Катерины Измайловой" - это 60-е годы. Огромная дистанция - тридцать лет - отделяет эти два события: очень успешную премьеру "Леди Макбет", последовавшую за этим атаку на Шостаковича и затем, очень мудрую и взвешенную позицию мастера, зрелого, великого, уже с совершенно отточенным пером.
Д. Шостакович - композитор с высоко развитой оркестровой манерой мышления, и инструментовка является одной из самых неотъемлемых характеристик его творческого почерка. Шостакович мыслил оркестрово уже на самом первоначальном этапе создания сочинения, и можно утверждать, что все музыкальные идеи у него рождались уже в тембровом виде. Во многих случаях выразительность тембра имеет для него гораздо большее значение, чем иные компоненты (интонация, ритмика, динамика и т. д.).
Рассмотрим для примера хотя бы момент возникновения темы нашествия в первой части Седьмой симфонии. Вся экспозиция строилась на сопоставлении струнной и духовой групп, используемых в обычной для Шостаковича манере. Если исключить неоклассические литавры, настроенные в тонику и доминанту и играющие в октаву с низкими трубами, то группа ударных в экспозиции остается практически неиспользованной. Заключительные такты экспозиции представляют собой красивое оркестровое morendo, построенное на истаивании широкого divisi струнной группы. Возникновение на фоне этого moderato дроби малого барабана представляет пример сопоставления максимально далёких в тембровом отношении оркестровых звучностей и является самым большим тембровым контрастом во всей части. Тембр малого барабана в свою очередь оказывает такое воздействие на звучание группы струнных, что при изложении темы нашествия она предстает неузнаваемо деформированной (редкий для Шостаковича комплексный тембр arco secco + col legno + pizzicato). Помимо сопоставления максимально далёких тембров, в этом эпизоде встречается и ярчайший пример подчинения оркестровой группы новому тембру (звук малого барабана словно проникает внутрь струнной группы, подчиняя её себе и деформируя).
Другим примером тембрового включения нового эпизода может служить начало четвёртой части Тринадцатой симфонии - «Страхи»:
На оставшемся от предыдущей части as виолончелей и контрабасов возникает тремоло литавр, придающее басовому органному пункту большую тяжесть и, вместе с тем, разрушающее некоторую идилличность окончания предыдущей части. Удар тамтама (являющегося одним из тембровых вариантов низкого колокола - лейттембра симфонии) и раздувающаяся трель большого барабана окончательно переключают действие в иную тембровую сферу, с одной стороны, темброво разделяя части, а с другой - психологически подготавливая solo низкой трубы. Тематически это solo довольно инертно , и выразительность тембра выступает на первый план. Яркость музыкального образа создаётся здесь тембровыми средствами.
Подобного рода примеров, подтверждающих большую роль тембра в сочинениях Шостаковича, в его музыке достаточно много (solo фагота в предельно высокой тесситуре в сцене приклеивания носа Ковалёвым , низкие флейты в побочной партии Десятой симфонии и другие).
В качестве интересного примера выявления дуалистических возможностей одного инструмента на грани формы можно вспомнить переход от Largo к финалу в Девятой симфонии. Небольшое Largo (являющееся развёрнутым вступлением к финалу) построено на двукратном сопоставлении императивного унисона тромбонов и тубы с речитативом высокого фагота. Второй из речитативов более развит, и в нём происходит постепенное понижение регистра солирующего фагота, своего рода тембровая перекраска, подготавливающая возможность возникновения темы галопа. Здесь мы встречаемся с интересным примером внутренней деформации тембра, на крайних полюсах которого солирующий инструмент выступает в противоположных функциях.
Одна из самых сильных сторон оркестровки Д. Шостаковича - точно скоординированное её взаимодействие с формой. Шостакович, по специфике дарования, - не миниатюрист. Он мыслит, как правило, в широких временных масштабах. Музыка Шостаковича рассредоточенна , и драматургия формы создается взаимодействием достаточно больших по временным масштабам разделов. Музыкальная информация его симфонических произведений всегда значительна и распределяется в длительном временном промежутке. Поэтому у Шостаковича детализация оркестровки - сравнительно редкий случай, и смены оркестровых групп и инструментов происходят через длительные промежутки времени (особенно это заметно в позднем периоде).
Внимание слушателя сознательно отключается от детального восприятия отдельных моментов, переключаясь в сферу взаимодействия крупных разделов формы. Музыка Д. Шостаковича воздействует прежде всего драматургической напряженностью целого . В этом и смысл оркестровки Д. Шостаковича - она предстаёт перед нами как точно рассчитанный план тембровой драматургии , находящейся в самом неразрывном единстве с общей драматургией формы. Тем самым оркестровка сама становится функциональной . Пожалуй, наиболее ярко функциональная сущность оркестровки у Д. Шостаковича выявляется в партитурах Пятой, Седьмой, Восьмой и Десятой симфоний.
В качестве примера взаимодействия формы и оркестровки у Д. Шостаковича рассмотрим экспозицию первой части Десятой симфонии. Весь вступительный раздел построен на струнной группе, причём струнные инструменты играют, преимущественно, в низком регистре. Тематическая, ритмическая и тембровая (своего рода мягкий «орган») нейтральность этого эпизода делает рельефным вступление кларнета, излагающего тему главной партии. Фон продолжает жить своей жизнью, временно разряжаясь при изложении темы. Энергия движения, заложенная с первых тактов в струнной группе и временно отодвинутая на второй план кларнетом, вновь обретает силы, непрерывно двигаясь к кульминационному разделу (ц. 12). Основные этапы подчёркнуты сменами оркестровки, но струнная группа во всей главной партии продолжает оставаться основным участником событий. Передача появившегося в ц. 8 движения восьмыми в бас сопровождается вступлением валторн (ц. 9) - обобщённого и вместе с тем мягкого тембра, расширяющего и усиливающего «органную» наполненность звучания . Несколько болезненная напряженность музыки подчёркивается использованием крайне высоких регистров, отдельных инструментов. Первое появление низких труб и тромбона в непосредственном подходе к кульминации подчёркивает возникшую дуольность движения. В кульминации (ц. 12) впервые звучит полное (без контрафагота), но ещё довольно кратковременное tutti. Подход к репризе главной партии (ц. 15) осуществлён тремя этапами: в первом из них, после снятия всех остальных оркестровых групп, струнные в сжатый промежуток времени исчерпывают движение восьмыми (в ц. 12 оно отсутствовало); после генеральной паузы вступает хорал меди (без труб), в котором кратко синтезируется движение валторн с гармоническими опорами тромбонов и тубы; наконец, третий этап - предыкт, отданный солирующему кларнету. Непрерывность прерванного движения восстанавливается, но над краткой репризой, словно призрак, висит неисчерпанная сила искусственно оборванной: кульминации.
В ц. 17 вступает новая тема - побочная партия. Её вступление сопровождается весьма решительными переменами в оркестровке - исчезает некоторая нейтральная обобщённость её, присущая предшествующим разделам экспозиции , и плотность звучания. Сама по себе тема обладает гораздо менее ярко выраженными мелодическими признаками, нежели тема главной партии. Она более тематична . Основными индивидуальными факторами её являются определённость типа движения и подчёркнутая интонационная монотонность («вдалбливание» одних и тех же интонаций, из которых наиболее важной является уменьшённая кварта). Исполняется тема низкой флейтой и сопровождается pizzicato струнных. Это пример тембрового выделения структурно важного раздела (флейта до сих пор использовалась только в tutti и в высоком регистре, а pizzicato появляется впервые в части).
Дальнейшие этапы развития побочной партии переводят действие в более обобщённый в тембровом отношении план, ещё больше выделяя структурную важность её первого появления. Здесь мы наблюдаем часто встречающуюся у Д. Шостаковича закономерность - интонационная нейтральность переходных моментов сопровождается нейтральностью оркестровки. Следующий важный раздел - реприза побочной партии (ц. 24) - опять индивидуализирован в тембровом отношении . Экспозиция заканчивается возвращением к мягкому «органу» низких струнных, причём в последнем этапе перехода к разработке опять происходит своего рода тембровое суммирование (сочетание агсо из главной партии и pizzicato из побочной).
На примере этого краткого анализа достаточно хорошо видны особенности взаимодействия формы и оркестровки у Д. Шостаковича. Вступительный раздел сразу намечает известную обобщенность оркестровки, темброво выделенными оказываются лишь наиболее важные появления главной и побочной партий, причём в последнем проведении побочной партии можно говорить о тембровом проникновении в неё главной темы. Для подчёркивания граней формы Д. Шостакович экономит тембр, сохраняя неиспользованным в течение долгого времени сначала кларнет в его обычном регистре, затем - низкую флейту и, наконец, - низкий кларнет (следующий этап экономии тембров - начало разработки с первым сольным вступлением группы фаготов). Стремясь к непрерывности следования различных разделов формы, композитор сглаживает тембровые переходы между ними (инструментовка вступления оказывается подложенной под изложение кларнетом главной партии и после его исчезновения столь же незаметно выплывает из-под него; pizzicato побочной партии, начинаясь на три такта раньше, звучит одновременно с кларнетом; последний такт экспозиции и первый такт разработки также совмещаются). Трубы и тромбоны вводятся на небольшом участке главной партии в кульминационный момент (тромбоны ещё раз возвращаются в piano в семи тактах хорала перед репризой главной партии), из ударных использованы лишь литавры в кульминации главной партии.
Характерные особенности взаимодействия формы и оркестровки у Д. Шостаковича мы наблюдаем и во второй части Девятой симфонии. Эта часть написана в миниатюрной сонатной форме без разработки. Грани формы ясны, и чёткость структурного членения подчёркнута оркестровкой. Главная партия (ц. 28-34) исполняется деревянными духовыми инструментами. Важный тембровый элемент её - pizzicato vibrato виолончелей и контрабасов, получающее сквозное развитие в этой части. Побочная партия (ц. 35-39) отделена от главной тонально (h-moll - f-moll), тематически («аккомпанементность» вместо мелодичности) и темброво (струнные con sordini). В ц. 37 вступают деревянные духовые с контрапунктом, отодвигающим основной тематический материал на второй план . Мелодически этот контрапункт непосредственно с главной партией не связан, но, в силу того, что главная партия целиком исполнялась деревянными духовыми, а побочная - струнными, можно говорить о первом этапе тембрового взаимодействия тем. После краткого и тематически нейтрального перехода (ц. 39) наступает реприза, начальные такты которой звучат в ещё не разрешившемся в h-moll c-moll, в то время как солирующая флейта и басы уже играют в чистом h-moll.
Соло флейты - следующий этап тембрового развития главной партии (постепенное вытеснение кларнета флейтой при первом изложении темы). Pizzicato vibrato получает дальнейшее развитие в репризе, исполняясь уже всей струнной группой.
Перед вступлением побочной темы в главной тональности (H-dur) валторны, до этого лишь дублировавшие струнные, впервые вступают на небольшом участке с определённым тематическим материалом (главной партии), прежде чем стать педалью, объединяющей всю побочную партию в репризе. В ц. 46 начинается кода, состоящая из трёх небольших разделов. В первом из них вновь возвращается главная тема у флейты (как в репризе), но звучит она уже в H-dur. Воздействие побочной партии на звучание главной в коде проявляется не только в возникновении в ней мажора, но и в педализации главной партии, что является, с одной стороны, проникновением принципа сплошной педализации побочной партии в репризе в главную партию, а с другой - следующим этапом эволюции приема pizzicato vibrato (pizzicato виолончелей и контрабасов в экспозиции; pizzicato всей струнной группы в репризе; агсо скрипок и альтов при сохраняющемся: pizzicato басов в начале коды). Второй раздел коды - нисходящий хроматический ход флейты и кларнетов, ассоциирующийся темброво с началом части, подводит к третьему - самому важному разделу коды. Мелодия главной партии отдана флейте-пикколо (следующий этап тембровой эволюции главной темы и, вместе с тем своеобразная тембровая «перемена в последний раз»); сопровождающие голоса дают последний этап синтеза - pizzicato vibrato всей струнной группы (в мажоре) суммируется с педалью валторн из репризы побочной партии.
На примере анализа этой части ещё яснее видно тесное функциональное взаимодействие формы и инструментовки у Д. Шостаковича - координация смены основных разделов формы со сменами оркестровых групп, сочетание тематического развития с тембровым, участие инструментовки в единой линии симфонического развертывания как одного из основных факторов. В качестве других примеров участия инструментовки в общей линии симфонического развития можно привести строго продуманные в отношении возрастания тембровой и динамической напряженности вариации темы нашествия в Седьмой симфонии или же токкату из Восьмой симфонии .
Стремясь обнажить структуру формы, Д. Шостакович иногда прибегает к почти схематическому чередованию оркестровых групп. Примеры подобного рода особенно характерны для его оркестровых сочинений последнего периода. Вспомним хотя бы начальные разделы третьих частей Девятой и Десятой симфоний с их в точности соответствующим чередованию тематических эпизодов сопоставлением деревянной и струнной групп оркестра, или же первое изложение главной партии финала Десятой симфонии, в котором инструментовка обнажает всю структуру формы (первое предложение - струнные, второе - деревянные духовые; средний раздел - струнные, духовые, струнные; и, наконец, реприза первого предложения в инструментовке второго). В последних сочинениях Д. Шостаковича подобная обнажённость оркестровки проявляется не только в тембровом членении формы по горизонтали, но и в разделении оркестровыми средствами параллельно идущих инструментальных пластов .
Строя форму, Шостакович бывает всегда внимателен к её внутренней драматургии, рассчитывая эмоциональный и динамический план, давая в узловых моментах концентрацию тематической выразительности и умело пользуясь общими формами движения в интермедийных разделах, психологически разряжающими атмосферу и вызывающими у слушателя потребность в возникновении новых очагов концентрации выразительности. Уже на примере экспозиции первой части Десятой симфонии достаточно ярко видно, как композитор концентрирует тембровую выразительность в моменты обнажения интонационной выразительности и как нейтрализуется оркестровка при появлении общих форм движения. Это происходит параллельно с нейтрализацией интонационного начала, ритма и фактуры в развивающих и переходных моментах и является приёмом отключения внимания с основных выразительных факторов. Обычно в таких случаях у Д. Шостаковича на первый план выступает неиндивидуализированная моторика, энергия чистого движения, столь нужная ему для заполнения больших участков музыкального пространства. Наибольшее место эти неиндивидуализированные типы движения занимают в финалах его симфоний - наименее важных в драматургическом отношении частях цикла. Этим же, вероятно, объясняется и бо́льшая ординарность оркестровки финалов.
Шостакович - композитор с достаточно ярко выраженным стремлением к программному началу в музыке. Эта линия, наметившись во Второй и Третьей симфониях и возродившись на иной почве в Седьмой симфонии, нашла продолжение в Одиннадцатой, Тринадцатой и Четырнадцатой симфониях и «Казни Степана Разина». Скрытая программность в той или иной степени присутствует и в большинстве других его оркестровых и камерных сочинений. В Тринадцатой симфонии, и, особенно, - в «Степане Разине» слово стоит на первом плане, являясь основным носителем идеи, и ради подачи его композитор согласен жертвовать всем - даже выразительностью интонации. Интонационный язык «Казни Степана Разина» настолько нейтрален, а ритмика настолько подчинена ритму самого стиха, что создается общее впечатление массового скандирования стихотворения, при котором партия оркестра лишь обнажает драматургию стиха, а местами - просто иллюстрирует его. Многие приёмы оркестрового и хорового письма вызывают ассоциации с массовыми сценами опер Мусоргского и Римского-Корсакова. Впечатление пространственности усиливается частым применением широкого divisi всей струнной группы (развивающим аналогичные эпизоды в Одиннадцатой симфонии).
Инструментовка достигает большой выпуклости образов. Самым ярким примером такой грубой, но удивительно картинной театральности может служить «блошиный эпизод», в котором точно найденные и поданные первым планом «скачки блох» у ксилофона (оркестр и хор в этот момент нейтральны) создают почти зримый по рельефности образ.
В Тринадцатой симфонии, при всей её театральности и частом обращении к немузыкальным средствам выразительности, программное использование оркестровых приемов дано более тонко. Несмотря на то, что оркестр в этой симфонии часто лишь аккомпанирует солисту и хору, его смысловая и выразительная роль достаточно велики.
Вспомним хотя бы такие эпизоды, как сцена с черносотенцами (ц. 5) из «Бабьего яра», в которой эффект грубого топота дан наложением тубы на pizzicato басов (см. аналогичный приём в антракте ко второй картине «Катерины Измайловой»), solo челесты в воспоминании об Анне Франк (ц. 14) - звуковой аналог фразы «прозрачная, как веточка в апреле», яркая театральность оркестрового сопоставления призрачных видений ребенка («это гулы самой весны») и страшных ударов низкой меди и большого барабана («ломают дверь»), кларнет-пикколо, удваивающий на две октавы выше солиста в «Юморе» на словах «В домах, где ханжа наследил своими ногами щуплыми», длинный эпизод наигрышей высокого дерева (ц. 47) перед словами «Но лишь скоморошьи дудочки». В этих случаях рельефность музыкального образа достигается прежде всего оркестровыми средствами. Ярким примером применения инструментовки для раскрытия подтекста стихов может служить и начало четвёртой части симфонии «Страхи» (см. пример 1).
Пожалуй, наиболее явно программно-театральные тенденции в использовании оркестра проявились в Одиннадцатой симфонии. Здесь композитор, при всей отчётливости программного замысла, ещё не связан словом, как в Тринадцатой и Четырнадцатой симфониях и «Казни Степана Разина», и выражение программно-изобразительной линии ложится целиком на оркестр. Все части симфонии имеют названия, но музыка в своей программной функции настолько рельефна, что и без уточнения программы музыкальные: образы могли бы восприниматься почти однозначно.
Первая часть вводит основной контраст между статикой и действием (данным здесь пока ещё в состоянии статики), который получит большое развитие во второй части. Контраст дается здесь, прежде всего оркестровыми, тембровыми средствами, группы сопоставляются в максимальном взаимоотдалении тембров - широкому divisi засурдиненной струнной группы (поддержанному, как это часто бывает у Д. Шостаковича, арфой) противопоставлена сначала самостоятельная тематическая фигура литавр (с излюбленной уменьшенной квартой), а затем - сигналы трубы с сурдиной, тематически связанные с мотивом литавр. Лейтмотив литавр оказывается неразрывно связанным с тембром:
и получает большое развитие в последующем . В новом качестве оба эти лейтмотива появляются в реминисценциях «Дворцовой площади» во второй части симфонии. Первоначально «мотив площади» возникает в хорале деревянных духовых инструментов (ц. 69), а мотивы литавр и труб звучат в варианте, близком заключительному эпизоду первой части (удвоение основного интонационного контура литавр арфой; новая горизонтально-вертикальная комбинация канона труб). В ц. 78 тема литавр возвращается уже ff и в дуольном варианте:
На этой же теме построена кульминация (ц. 83), приводящая к разделу, в котором сопоставляются эпизоды одних ударных и tutti оркестра (ц. 84-90). Здесь тема литавр доходит до высшей точки развития и звучит fff в увеличении:
Наиболее выразительным по оркестровке эпизодом является заключительное Adagio второй части (ц. 91), в котором театральная красочность оркестра достигает кульминации. После напоминания об основном тематическом материале первой части мотив литавр возвращается в первоначальном ритмическом и звуковысотном варианте. Как и во многих других случаях, переход к Adagio осуществлён приёмом наложения, при котором конец предыдущего раздела и начало последующего временно совмещаются - инструментовка Adagio незаметно выплывает после резкого снятия группы ударных ff, создавая простой, но очень впечатляющий оркестровый эффект . В менее обнажённом виде изобразительные тенденции оркестровки выступают в программных Второй, Третьей и Седьмой симфониях. Марш в Третьей симфонии вводится плакатным приёмом - после дроби малого барабана fff унисон двух валторн излагает диатоническую, маршевую тему:
Эпизод нашествия в Седьмой симфонии решён как цепь оркестровых вариаций с постепенным введением новых тембров на фоне ритмического ostinato . Оркестровая программность здесь настолько однозначна, что послужила причиной частого использования этой музыки во многих советских и зарубежных фильмах для сопровождения картин немецкого наступления во время второй мировой войны.
Более индивидуализировано оркестровое решение программного замысла в партитуре Второй симфонии («Симфоническое посвящение Октябрю»), Музыка её, возникая из небытия, через различные этапы становления тематизма приходит к своей итоговой фазе - хору на стихи А. Безыменского.
В начальном разделе симфонии композитор оркестровыми средствами даёт картину застывшего, но полного внутреннего движения хаоса, поднимающегося из глубин и растущего. Возникшая на этом фоне тема трубы не оказывает влияния на основной оркестровый пласт. Взаимодействие между темой и фоном остаётся внешним оркестровым сопоставлением, так как они координируются лишь во времени. Ощущение аморфной статичности фона достигается применением divisi струнной группы на семь партий с одновременным совмещением различных степеней деления метрической доли, возрастающих в вертикальном направлении. Общий гетерофонный эффект движущейся, и в то же время статичной оркестровой массы, возникает не только из соединения различных типов равномерного движения, не имеющего определённой направленности (объёмного и, вместе с тем, - замкнутого), но и благодаря ладовой некоординированности движущихся линий и их мелодической нейтральности. Здесь наблюдается приём оркестрового движения в статичной его разновидности. Благодаря тому, что тематически, ладово и динамически фон полностью нейтрален, внимание слушателя целиком переключается на восприятие самого движения:
Яркие примеры применения оркестровых эффектов для раскрытия драматического подтекста сцен и для характеристики отдельных персонажей есть в обеих операх Д. Шостаковича - «Нос» и «Катерина Измайлова». Наиболее интересна в этом отношении партитура «Носа», занимающая особое место в творчестве Д. Шостаковича. В музыке оперы композитор не применяет традиционные оперные схемы, и мы редко здесь встречаемся с протяженными и законченными музыкальными эпизодами . Ткань строится на речитативах, воспроизводящих разговорные интонации персонажей. В ряде случаев композитор очень точно передаёт интонации естественной речи, но чаще всего эти интонации заострены и гротескно-шаржированы. Мелодизм, в обычном понимании слова, в опере почти отсутствует. Театральность музыки очень велика и, несмотря на весь блеск её и обилие великолепных музыкальных находок, она более проигрывает вне сцены, чем, например, «Катерина Измайлова». Музыка «Носа» написана с огромной юношеской увлечённостью, и создаётся такое ощущение, что при работе над оперой композитором больше руководил непосредственный порыв, нежели точный расчёт. При первом ознакомлении с партитурой бросается в глаза кажущееся обилие случайного материала, не отшлифованного тематически, не получающего иногда никакого дальнейшего развития и даже построенного на «случайных» интонациях. Однако это не совсем так. Следует сразу же заметить, что при кажущейся интонационной случайности отдельных партий или оркестровых голосов, существует некая интонационная общность всего произведения. Во-вторых, текучесть музыкальной ткани, лишённой тональной основы и определённого тематизма, с неожиданно вклинивающимися в неё ярко театральными эпизодами, даёт великолепную картину потока странной и, вместе с тем, нереально театрализованной жизни (несмотря на нарочитую локальность быта и географическую определённость), на фоне которой, живут и двигаются странные гротескные персонажи. Интонационный язык действующих лиц характерен и основан на заострённой подаче разговорных интонаций. Отсутствие тематизма в речитативах и малая доля ариозных моментов значительно повышают выразительную и драматургическую функции оркестра. В ряде случаев композитор прибегает к оркестровым эффектам при характеристике отдельных персонажей. Так, например, первое появление Квартального сопровождается вступлением оркестра домр (чем весьма тонко передаётся его «связь с народом»), лакей Ковалёва, Иван, охарактеризован балалайкой соло, Нос - альтовой флейтой. Оркестровыми средствами Шостакович передаёт и таинственную атмосферу Казанского собора, в котором происходит встреча Ковалёва с собственным Носом: divisi контрабасов, тихое tremolo арфы и малого барабана и solo альтовой флейты в низком регистре создают атмосферу глубины и сумрачной пространственности (авторская ремарка: «Таинственный полумрак»). Арфа здесь применена в нехарактерной для неё функции оркестровой педали - унисонное тремоло звучит как имитация высоких литавр. Помимо непривычной трактовки арфы и использования альтовой флейты, сама тембровая комбинация инструментов необычна, что создаёт эффект ирреальности происходящего. Контрабасы звучат в самом низком регистре, и их тембр гораздо более выразителен здесь, чем интонационно нейтральный мелодический рисунок:
Другой пример достижения театрального эффекта оркестровыми средствами - сцена метаний Ивана Яковлевича по набережной, пытающегося избавиться от Носа (вторая картина). Сцена решена как пятнадцатиголосный свободный канон струнных, посаженный на равномерный остинатный фон большого барабана. Здесь полифонический приём быстро перерастает в гетерофонный эффект постепенного разрастания (при неизменной динамике), так как тематизм самого канона нейтрален, вступления голосов расположены строго в тесситурном порядке (divisi каждой партии на три), голоса на протяжении всего эпизода сохраняют свою линеарную независимость, в результате чего мы приходим в заключительной разделе (ц. 58) к реальному пятнадцатиголосию, при котором ни один из голосов не дублируется.
Фактически весь этот эпизод имеет чисто сонорное значение, ибо интонационная и ритмическая нейтральность голосов приводит к превращению quasi-полифонической ткани в непрерывно движущуюся, но нейтральную сонорную массу. Остаётся лишь равномерность пульсации и постепенное утолщение темброво однородной оркестровой массы. Метрическая определённость здесь также нейтрализована, ибо сильная доля такта, всегда достаточно подчёркнутая у Шостаковича, здесь практически отсутствует. Смена размера является лишь условной (см. пример 9).
Конечно, никакой изощрённый слух не может реально воспринимать это пятнадцатиголосие, так как, помимо большого количества независимых голосов, их внутреннее движение достаточно усложнено отсутствием взаимного координирования - они двигаются, нарочито не соблюдая никаких «правил», перекрещиваясь, наступая и противореча друг другу . Несмотря на ясную театральную функцию, программность не настолько однозначна, чтобы её можно было достаточно точно характеризовать словом. Одним из возможных вариантов смысловой трактовки этого эпизода может быть картина смятенной и наслаивающейся на себя мысли (idée fixe), приводящая к тому, что Иван Яковлевич решается бросить Нос в реку (кульминация эпизода); удары большого барабана, объединяющие весь канон, могут читаться, как стук сердца перепуганного человека.
Большой яркости достигает инструментовка в начале третьей картины - сцене просыпающегося Ковалёва. Здесь тембровая изобразительность дана в совершенно обнажённом виде: глиссандирующий тромбон имитирует потягивания Ковалёва, а контрафагот и высокая солирующая скрипка - всхрапывания и присвистывания:
Всё это темброво великолепно сочетается с вокальной партией, исполняющейся на звуке «Брр...»
Не менее точно оркестрово решена сцена приклеивания Ковалёвым носа в восьмой картине (ц. 394). Струнные разделены на 14 партий и divisi охватывает диапазон в шесть с половиной октав. Интонационно весь этот «аккорд» является пространственно разбросанным кластером (девять нот от с до gis , и поэтому его интервальная структура нейтральна. Это - лишь пространственная: краска. Всё внимание концентрируется на solo фагота, что ещё более заострено болезненной напряжённостью и некоторой «странностью» регистра:
Инструментовка передаёт и застылую напряжённость момента (divisi струнных), и невероятно трудный процесс приклеивания носа (solo высокого фагота).
В партитуре «Катерины Измайловой» инструменты использованы более традиционно, но и в ней есть немало впечатляющих оркестровых эпизодов. Принцип тембровой характеристики действующих лиц здесь проведен ещё более последовательно, нежели в «Носе». Уже первая сцена Катерины Львовны дает яркую тембровую характеристику её - холодная, интонационно нейтральная музыка, исполняемая деревянными духовыми, полностью соответствует словам Бориса Тимофеевича: «А ты, как рыба, холодная». С мрачной фигурой Бориса Тимофеевича связан тембр фагота , его сын - безвольный и вялый Зиновий Борисович, - охарактеризован тембром альтовой флейты.
В партитуре «Катерины Измайловой» мы встречаемся и с жанровой характеристичностью оркестрового письма (сцена порки, марш из пятой картины, задрипанный мужичок , опереточные полицейские и т. п.), и с приёмами стилизации (ария Катерины в третьей картине с романсовой фигурацией арфы), и с тонкой экспрессивностью (утончённая лиричность оркестровки в любовных сценах), и с лаконичным использованием тембров в целях создания определённого настроения (лейтмотив трезвучий челесты в третьей картине «Спать ложусь...», заканчивающий ариозо и арию и звучащий в конце картины у трёх валторн; «сладкая» Violino solo в сцене отравления: solo двух низких арф в унисон в последней арии Катерины «В лесу, в самой чаще есть озеро» и т. п.). Однако наиболее тонкими и интересными образцами использования оркестровки в драматургических целях являются приёмы выявления истинного подтекста сцены. Ярким примером может служить причитание Катерины над трупом Бориса Тимофеевича в четвёртой картине - неискренность причитания расшифровывается инструментовкой (удвоение Flauto певицы в октаву + 2 Fagotti staccato); в пятой картине, когда у Катерины появляется мысль об убийстве мужа, весь подтекст решается также в оркестре (см. ц. 301, бас - Cassa + Trombone + Tuba).
В симфонических сочинениях, предшествующих Пятой симфонии, мы ещё почти не встречаемся с неоклассическими моментами; форма здесь довольно свободна , чёткой внутренней функциональной дифференцированности оркестра ещё нет, музыка, в большинстве случаев, строится на свободной политональной или атональной основе, оркестровое мышление локально и более индивидуализировано, чем в поздних сочинениях.
Стиль ранних оркестровых сочинений Д. Шостаковича линеарн, причём полифоническое координирование одновременно звучащих линий часто условно и «правила голосоведения» практически не соблюдаются.
В более поздних сочинениях эта линеарность остаётся, но она, при всей условности голосоведения, становится более упорядоченной, так как обычно подразумевает ту или иную гармоническую опору. Кроме того, её функции в форме значительно смещаются, уступая место гомофонному изложению в основных разделах. Линеарность же отступает в эпизоды переходно-связующего значения и моменты эмоционального отдыха, построенные на нарочито безликом в интонационном отношении материале (общие формы движения). В сочинениях раннего периода линеарность не ограничивается тональными рамками, что позволяет Д. Шостаковичу в ряде случаев достигать сильно индивидуализированного оркестрового звучания.
С двумя примерами получения оркестровых эффектов путём применения свободной и некоординированной многоголосной линеарности мы уже встречались (см. примеры 7 и 9). В этих же партитурах есть много и других, не менее ярких примеров линеарнонекоординированной многоголосной фактуры, приводящей к возникновению нового сонорного качества. Отличными образцами подобных эффектов могут служить неожиданно широкое divisi струнной группы на 15 партий (с ррр subito) в первой картине оперы «Нос» (ц. 43), подчёркивающее ирреальность появления Носа в куске хлеба («Происшествие несбыточное...»), или же момент «оркестровой импровизации» с постепенным увеличением числа независимых голосов до пятнадцати (включая две партии ударных, автономных в ритмическом отношении) в подходе к кульминации во Второй симфонии (ц. 29-47). Стихийность движения при некоординированной линеарности возникает в моторных фрагментах Второй (ц. 48) и Четвёртой (ц. 63) симфоний. В Четвёртой симфонии стремительное фугато струнных воспринимается сонорно, так как вся фактура контрапунктических голосов столь же нейтральна ритмически, как и сама тема (ровное движение шестнадцатыми в темпе Presto), а полифонические взаимоотношения голосов строятся на элементе случайности. Ещё более яркий пример массовости движения - в упомянутом выше фрагменте из Второй симфонии (см. ц. 48). Здесь одновременно с девятиголосным каноном деревянных, вступающих через одну шестнадцатую и образующих интервалы малой секунды с каждым из предшествующих голосов, даётся четырёхголосный канон той же хроматической гаммы в увеличении у струнных (со вступлением в одну восьмую) и самостоятельные линии меди и ударных.
В сочинениях последнего периода (см., например, Одиннадцатую симфонию) эффект массовости движения решается более элементарными средствами механического нагнетания.
С течением времени линеарное начало у Д. Шостаковича постепенно упрощается во взаимоотношениях вертикали, одновременно «вытягиваясь» по горизонтали. В сочинениях, написанных после Четвёртой симфонии, уже никогда не встречается многоголосная линеарность - количество голосов не превосходит предела, при котором полифонический комплекс свободно прослушивается во всех своих деталях . Большое место начинает занимать двухголосие и длинные одноголосные soli. Претерпевает значительные изменения и общая манера оркестрового мышления - если для ранних сочинений более характерна тембровая фрагментарность, ярче всего проявившаяся в «Носе», но присущая и Первой симфонии и другим сочинениям, то в более поздний период манера мышления длинными и однородными по тембру разделами становится основной.
В партитуре «Носа» тембровая расчленённость оркестра настолько велика, что партитура временами становится пуантилистической. Уже само начало увертюры даёт толчок к развитию приёма тембровой расчлененности:
Манера оркестрового письма в увертюре по рисунку иногда напоминает некоторые страницы партитур А. Веберна. Ни одна однородная по тембру ячейка не включает элемента, состоящего более чем из трёх звуков. Тембровая расчленённость микроячеек подчёркивается и их регистровой расчленённостью. Весь мир предстаёт разбитым на изолированные звуковые фрагменты и становится сюрреалистическим. Увертюра «Носа» сразу же вводит в ту область, где привычная логика становится нереальной, а все странное - привычным и естественным. Д. Шостакович сталкивает микроячейки, обладающие наибольшей тембровой и регистровой расчленённостью. Эта идея заявлена уже в первых тактах увертюры (см. пример 12). Активный, quasi-глиссандирующий взлёт меди сопоставляется с нотой-точкой флёйты-пикколо; ударные, не имеющие определённой звуковысотности, представлены двумя наиболее контрастными по диапазону инструментами - малым и большим барабанами. Сохранение этого композиционного принципа ясно видно и в примере 13: в отличие от партитур А. Веберна, тембровая расчленённость которых мягка и поэтична, письмо Д. Шостаковича основано здесь на увеличении контрастности и точечной изолированности:
В партитуре оперы, при всём разнообразии приёмов, эта линия получает своё большое и отчётливое развитие (разговор Ивана Яковлевича с Прасковьей Осиповной в первой картине, появление Квартального во второй картине, начало третьей картины, ансамбль дворников и лакеев в конце пятой картины и т. д.). Пожалуй, наиболее последовательно это выражено в сцене появлений Квартального, где пуантилистический принцип оркестрового письма выдерживается до конца сцены. Здесь уже нет ничего, кроме нот-точек. Мир, в своей последовательной деформации, распадается. Странность происходящего усиливается применением некоторых инструментов в непривычном для них регистре (в приведённом примере особенно характерен такт на 7 / 4 , где фагот играет во второй октаве, а контрабасы звучат выше виолончелей) :
Принцип расчленения партитуры на отдельные тембровые ячейки, слегка наметившийся ещё в некоторых фрагментах Первой симфонии, в дальнейшем не получает развития у Д. Шостаковича и уступает место противоположному принципу редкой смены цельных тембровых пластов.
С течением времени Д. Шостакович всё дальше отходит от тембровой расчленённости партитур раннего периода. Его оркестровка становится более густой и, одновременно, мягкой, значительную роль начинают играть оркестровые педали, на смену свободной дифференцированности оркестра вступает чёткое деление по группам, необычность ансамблей внутри оркестра уступает место темброво-однородной ансамблевости, всё чаще в оркестре появляются «органные» звучности.
Особенно яркий пример духового «органа» - начало третьей части Седьмой симфонии (см. цифры 105 и 107). Большое место «органные» эпизоды занимают в Десятой, Одиннадцатой симфониях и Первом скрипичном концерте. Один из ранних образцов «органной» звучности встречается в коде финала Четвёртой симфонии (ц. 246). Здесь сумрачный хорал низкого дерева (Cl. basso, 3 Fag., С.-fag.) возникает на остинатном фоне, уступая место при solo валторны, также мягкому «органу» делённых на четыре партии виолончелей. В дальнейшем развитии (ц. 249) хорал расширяется в диапазоне - к левой руке «органа» присоединяется и правая рука (4 Fl. + 4 Сl.).
Прекрасный пример струнного «органа» мы слышим в третьей части Пятой симфонии (ц. 75-78). Divisi струнной группы создаёт мягкую, теплую и возвышенную звучность. Вся часть строится на сопоставлении мягкого tutti, в котором главенствующее положение занимают струнные с эпизодами, в которых солируют духовые. В партитуре Шестой симфонии есть также quasi-органные звучности (см., например, ц. 7), но особо важное место они занимают в последних симфониях Д. Шостаковича и в Первом скрипичном концерте . В быстрых частях композитор часто использует имитации органных звучаний, уже лишённых типичной для медленной музыки хиральности (см., например, ц. 139 в Четвёртой симфонии; начало скерцо из Девятой симфонии; цифры 156, 162, 188 в финале Десятой симфонии и т. д.).
Ощущение близости к органному звучанию в быстрой музыке обычно возникает в сольных эпизодах деревянной духовой группы, особенно если используются октавные и унисонные удвоения в гаммообразном движении.
Другая характерная особенность оркестровых сочинений Д. Шостаковича последнего периода - значительный рост «колокольных» звучностей.
Самый ранний пример «колоколов» встречается в ещё очень малеровском цикле романсов на японские стихи для тенора и симфонического оркестра соч. 21 (1928-32 гг.). Первый, второй, четвёртый и шестой из этих романсов начинаются тихим колокольным звоном, инструментовка которого непрерывно варьируется:
Арфа участвует во всех «колокольных» комбинациях (как у Малера); другим частым тембровым компонентом является Cl. basso в низком регистре.
«Колокол» дан ещё без применения ударных инструментов. Другой ранний пример низкого колокола - «Реквием» из музыки к «Гамлету»:
Здесь уже присутствует характерное тембровое сочетание низкого духового инструмента с гонгом (или тамтамом), поддержанного pizzicato виолончелей и контрабасов (в других сочинениях Шостакович иногда заменяет pizzicato арфой, или же соединяет то и другое).
Приведём примеры «колокола» из первой части Шестой симфонии и Первого скрипичного концерта:
Эти три удара «колокола» ещё в большей степени являются малеровскими. В них почти точно воспроизводится та тембровая комбинация, которой начинается финал «Песни о земле» (С.-fag., Corno, Tam-tam, Агра, Vc. + Cb. pizz.). Разница лишь в том, что Шостакович использует сочетание arco+pizzicato контрабасов и заменяет (примеры 17б и в) низкую валторну на тубу.
В «Казни Степана Разина» слышатся три мощных удара колокола в густой инструментовке (после слов «И ударили три раза, клокоча, колокола»).
Здесь малеровская комбинация также является основой. Добавление Campane увеличивает краску чистой колокольности, а введение Timpani и Piano усиливает акцентность удара и его динамический уровень.
Если в приведённых выше примерах колокола имели значительную смысловую и психологическую нагрузку, то колокольность «Степана Разина» гораздо более театральна и иллюстративна. Общая оркестровая плотность «колокола» здесь увеличена добавлением таких, менее мягких по сравнению с предыдущими «колоколами» инструментов, как Timpani и Piano. Большая выпуклость и оркестровая яркость колокольности «Степана Разина» оправдывается программностью музыки этого сочинения. Все инструменты (кроме литавр) применены почти на пределе регистровых возможностей самого низкого диапазона:
Большую роль играют колокольные звоны в Тринадцатой симфонии, начинающейся и заканчивающейся ударом низкого колокола.
Несмотря на сходство инструментовки колоколов у многих композиторов , можно говорить о малеровских истоках колокольности Д. Шостаковича, так как, за исключением «Казни Степана Разина», где колокола используются в программных целях, колокольность Д. Шостаковича имеет вполне определённое и отмеченное явным малеровским колоритом психологическое значение. Колокол Д. Шостаковича так же грустен и полон ностальгии, как и знаменитый далекий колокол в начале финала «Песни о земле» Г. Малера:
Стремление к меньшей дифференциации оркестрового звучании приводит к возрастанию роли больших и малых tutti в оркестре зрелого Д. Шостаковича. Некоторые примеры нестандартного решения туттийных эпизодов в ранних сочинениях Д. Шостаковича уже приводились. В более поздних сочинениях он меньше заботится о тембровой индивидуализации tutti, обращая основное внимание лишь на степень его динамической интенсивности. По этой причине туттийные эпизоды симфонических произведений зрелого Шостаковича весьма стандартны по инструментовке . Вообще роль tutti всё больше и больше возрастает в сочинениях Шостаковича зрелого периода, что приводит к стандартизации оркестровки в целом и к некоторому злоупотреблению forte. Наиболее отрицательно это проявляется в финалах некоторых симфоний (например, Седьмой и Одиннадцатой), где одновременно с ухудшением качества музыки происходит и нивелирование оркестровки, а также - в некоторых последних сочинениях (Двенадцатая симфония, «Казнь Степана Разина»), где композитор пытается компенсировать недостатки развития громом сплошного и утомительного tutti.
В зрелых сочинениях Д. Шостаковича часто встречаются взвинченно-напряженные кульминационные разделы. Эффект болезненной напряжённости оркестрового звучания достигается прежде всего приёмом использования инструментов в высоких регистрах, где сам тембр приобретает несвойственную ему экспрессивность. Д. Шостакович ещё больше усиливает эффект напряжённости, частично или полностью снимая басовые голоса. Гармония в таких кульминациях, если она присутствует, обычно бывает сведена к минимуму, и внимание слушателя полностью переключается на восприятие солирующего голоса. Как характерный пример рассмотрим кульминацию третьей части Пятой симфонии (ц. 89). После сравнительно небольшого, но интенсивного нарастания, оркестр снимается и остаётся только повисшее tremolo в двух октавах у вторых скрипок и альтов, поддержанное роялем и педалью флейт и кларнетов. Тематические отрезки исполняются струнными (в три октавы), на которые наложены духовые и ксилофон. Напряжённость звучности достигается использованием высоких регистров инструментов, исполняющих крайние голоса - верхняя октава отдана унисону скрипок, играющих ff с акцентами в третьей октаве, высокому кларнету-пикколо и акцентирована ксилофоном; нижнюю октаву исполняют виолончели и фаготы, играющие в первой октаве, где напряжённость тембра также очень велика; средняя октава оркестрована нарочито нейтрально (вторые скрипки и гобои в обычном регистре) и выполняет роль заполнения диапазона. Впечатление взвинченности фрагмента усиливается благодаря tremolo в достаточно высоком регистре и отсутствию басового голоса, вступающего с гаммообразной восходящей линией всего на полтора такта.
Следующий раздел кульминационного участка (ц. 90) снижает диапазон, но не снимает напряжённости звучания.
Solo виолончелей и резкие акценты контрабасов даны в высоких регистрах, отсутствие басов становится всё более и более ощутимым.
Примеры таких кульминаций встречаются не только в партитуре Пятой симфонии , но и в большинстве других симфонических произведений зрелого Шостаковича. Обычно такие длительные и напряжённые по оркестровой звучности разделы, лишённые басовой опоры, имеют предыктовое значение, и момент вступления гармонии с плотно изложенным басом, воспринимается как долгожданное разрешение. Так построены, например, момент подхода к репризе в первой части Пятой симфонии (ц. 35) и оркестровое crescendo перед кодой финала (ц. 129-130).
Яркий пример длительно выдержанного оркестрового ff в высокой тесситуре наблюдается в первой части Восьмой симфонии (ц. 25-29) перед вступлением важного в драматургическом отношении токкатного эпизода разработки, основанного на остинатном «топоте» басов
В начальных тактах этого эпизода звучат типичные для зрелого Д. Шостаковича оторванные от остальной оркестровой фактуры унисоны высокого дерева (позже - октавы).
Аналогичные унисоны встречаются весьма часто в Восьмой симфонии , а также в других симфониях Шостаковича . Обычно эти унисоны не удваиваются и фактурно и тесситурно отделяются от остальных оркестровых голосов (что легко видеть хотя бы в упомянутых примерах из Четвёртой и Восьмой симфоний). Тем самым подчёркивается их тембровая изолированность в общей фактуре. Напряжённость их звучания достигается тем, что в общем смешанном тембре участвует либо инструмент с напряжённым тембром (обычно - Cl. piccolo), либо по крайней мере один из участвующих инструментов играет в очень высоком регистре. В примере 2 не только Cl. piccolo, но и остальные инструменты - два гобоя и два кларнета использованы в предельно высоком для них регистре, в силу чего с первых же тактов тембровое звучание «мотива крика» обретает необходимую напряжённость звучания.
Истоки этого приёма лежат в оркестре Г. Малера, который даже в первых своих симфониях пользовался безоктавнымй высокими унисонами дерева достаточно широко. Общность инструментовки также ясна, если сравнить приведённые выше примеры со следующими фрагментами, взятыми из симфоний Г. Малера:
Как видим, в большинстве примеров участвует один из напряжённо звучащих кларнетов (либо Es, либо С). Аналогичные безоктавные унисоны встречаются и в других симфониях Г. Малера (4 Fl. + 4 Ob. + З Cl. in B + Cl. in Es в унисон ff в цифрах 1 или 11 Шестой симфонии, 2 Fl. picc. + 4 Fl. + З Cl. in В + Cl. in Es в ц. 21 Седьмой симфонии, сходные по инструментовке унисоны в «Бурлеске» из Девятой симфонии и т. д.).
В Четвёртой-симфонии (пример 20 б) тембровый разрыв (ц. 10) подчёркнут фактурно (флейты играют в третьей октаве, сопровождающие голоса - Сl. basso, V-celli, C-bassi - в малой и большой октавах) и динамикой (f четырёх флейт, р и рр сопровождающих голосов). В цифре 11 первой части Четвёртой симфонии Maлepa отдельные «крики» звучат сначала у солирующего Cl. in С (campana in aria!), а затем - у двух гобоев (с подчёркиванием взлёта двумя флейтами):
В сочинениях Д. Шостаковича встречается не только длительное солировайие оркестровой группы или комплекса инструментов, но и развёрнутые soli отдельных инструментов. В его музыке можно найти самые различные solo, хотя в целом композитор предпочитает солирование деревянных духовых инструментов.
Особое место в сочинениях Д. Шостаковича занимает фагот, солирующий очень часто, как в быстрой, так и в медленной музыке. В качестве примеров применения солирующего фагота в подвижной музыке можно привести большое solo в заключительном разделе первой части Четвёртой симфонии (д. 103) или solo в финале (ц. 202), начало финала Девятой симфонии, сумрачное solo в третьей части Десятой симфонии или смешное «топтание» фагота в финале её (д. 192), подготавливающее вступление главной темы (раскачка движения, несколько напоминающая переход от Largo к Allegretto в Девятой симфонии). Если в быстрой музыке фагот у Д. Шостаковича имеет добродушный, гайдновский характер, то в медленной музыке он чаще всего применяется в развёрнутых, свободных и болезненных речитативах . Самый яркий пример такого речитатива - реприза первой части Седьмой симфонии (ц. 60). Ещё более свободно решён речитатив фагота во вступлении к финалу Девятой симфонии.
На этих примерах видно, что Д. Шостакович, используя в скерцозной музыке преимущественно средний и самый низкий регистры фагота, в речитативах почти целиком ограничивается напряжённым и экспрессивным высоким регистром, напоминающим звучание саксофона . Более обычный пример solo фагота встречается в начале марша из Четвёртой симфонии (д. 152.). Ярким solo высокого фагота в подвижной музыке, лишённой грртескнрго элемента, является изложение главной темы финала Восьмой симфонии (д. 124).
Другой духовой инструмент, весьма часто солирующий у Шостаковича, - флейта-пикколо, так же как и фагот, выступает в двух функциях: быстрых и изломанных гротескных темах и в призрачных реминисценциях мелодий, ранее исполнявшихся другими инструментами. Характерные примеры применения флейты-пикколо в подвижной музыке есть в Девятой симфонии (ироническое «насвистывание» темы побочной партии в экспозиции первой части, ц. 6) или в центральном эпизоде второй части Восьмой симфонии (ц. 53).
Во всех подобных примерах флейта-пикколо даётся в большом регистровом разрыве с остальными инструментами. Прекрасные примеры solo флейты-цикколо в медленной музыке есть в кодах второй части Девятой симфонии и первой части Десятой симфонии, в которых, благодаря мертвенной аэмоциональности тембра флейты-пикколо, воссоздаётся ощущение прострации.
Не останавливаясь подробно на примерах солирования других духовых инструментов в музыке Д. Шостаковича, упомянем лишь о большой роли Corno inglese в последних его оркестровых сочинениях (большие solo в первых частях Четвёртой (ц. 96-98) и Восьмой симфоний (ц. 35-39) и в финале Одиннадцатой симфонии (ц. 162-166).
Сольные эпизоды редко применяемых инструментов чаще всего встречаются в ранних произведениях Д. Шостаковича. Это - саксофон в «Золотом веке» (например, solo Sax. soprano в Adagio) , балалайка и корнет в «Носе», альтовая флейта в «Носе» и «Катерине Измайловой» (позже альтовая флейта введена лишь во второй части Седьмой симфонии), гавайская гитара в «Джаз-сюите», туба во Второй и Третьей симфониях.
Ударные инструменты у Д. Шостаковича обычно используются в ритмических и динамических целях и редко выступают solo. Тематическое применение литавр уже упоминалось на примере Одиннадцатой симфонии . Несколько менее ярко это можно видеть в финале Первой симфонии.
Рассмотрим несколько примеров, в которых ударные играют более важную роль в общей структуре, а не ограничиваются только динамическими или звукоизобразительными функциями.
Во второй части Первой симфонии Д. Шостакович тематически использует группу ударных. Впервые это последование тембров появляется в момент первого кульминационного взлёта, после которого идёт переход ко второй теме (ц. 5):
Второе появление этого «мотива тембров» знаменует начало следующего важного раздела формы - общей кульминации и соединения тем (ц. 21). В этом разделе можно говорить о вертикальной комбинации серии ударных, своего рода «аккорде», подчёркивающем последовательное дробление структур. Тематичность «аккорда» определяется тем, что, во-первых в двух предыдущих проведениях серия возникала в переломных моментах формы и ясно воспринималась на слук; во-вторых, в «аккорде» инструменты не утратили своей индивидуальности ( малого барабана расшифровалась в , литавры продолжают играть «ля», остальные ударные также не меняют способа звукоизвлечения); в-третьих, одновременно с суммированием тем, суммируются и тембры ударных - к «аккорду», образуемому серией, присоединяется удар треугольника, впервые, введенного в этой части вместе со второй темой и являющегося своего рода символом её.
В коде скерцо происходит тембровое суммирование: двойной штрих струнных в сочетании с треугольником вызывает в памяти образ второй темы (несмотря на то, что интонации её не возникают) и скерцо заканчивается серией ударных в её чистом виде рр (с расшифрованной трелью у барабана и со смещением заключительного «ля », переданного близкому по тембру к литаврам pizzicato виолончелей и контрабасов):
Пример 23а
В коде второй части Четвёртой симфонии группа ударных использована самостоятельно. В ней Шостакович включает срару три ударных инструмента с заостренными тембрами - Castagnetti, Holzton и Tamburo (играющий и по коже, и по обручу), выполняющих едва ли не основную функцию в общей структуре. В силу тембровой характерности группа ударных выступает здесь на первое место, переключая на себя внимание слушателя. Тематичность вступления первых скрипок стирается двойным штрихом, уничтожающим ритмическую индивидуальность темы и придающим ей «аккомпанементность». Ostinato pizzicato виолончелей и контрабасов, поддерживаемое арфой, выполняет функций третьего плана в общем восприятии фрагмента. Здесь тоже можно говорить о тематической индивидуализации группы ударных, играющих остинатный контрапункт к теме скрипок. Яркость вступления ударных подчёркнута тем, что в этой части до коды ударные практически не звучали (если исключить литавры и несколько нот ксилофона). Таким образом, в коде скерцо из Четвёртой симфонии ударные инструменты вновь применены тематически. По существу, здесь уже почти ансамблевое использование оркестровых голосов - налицо всего три реальных голоса, отдалённых в тембровом отношении и чётко прослушиваемых на всём протяжении; педали нет. В последующих сочинениях Д. Шостакович уже не применяет ударные столь ярко тематически (программное использование малого барабана в Седьмой симфонии или литавр в Одиннадцатой симфонии имеет другой смысл).
В двух последних симфониях Д. Шостаковича - Четырнадцатой и Пятнадцатой - ударные инструменты трактуются как самостоятельная и очень важная группа. Особенно ярко это проявляется в Пятнадцатой симфонии, в которой ударные инструменты широко используются не только в разнообразных ансамблях (пример 23 б), но развёрнутым solo всей группы заканчивают симфонию (пример 23 в).
Пример 23б
Пример 23в
В зрелых своих сочинениях Д. Шостакович редко прибегает к ансамблевой манере письма. Мы уже говорили о всё возрастающей роли tutti в его сочинениях. Расчленение оркестра в его поздних сочинениях происходит больше по группам и равноправные ансамбли являются редким исключением - обычно композитор применяет прием solo с аккомпанементом. Наиболее интересные ансамблевые вычленения находим в ранних сочинениях Д. Шостаковича - опере «Нос» и Второй симфонии. В опере «Нос», партитура которой написана для одинарного состава дерева и меди, ещё больше располагающего к линеарной манере мышления в силу трудности создания ровно звучащей гармонии, встречаются самые интересные по составу инструментов и манере их использования ансамбли. Один пример подобного ансамбля (С.-fag., Trombone, Canto, Violino), уже приводился . Вот любопытный пример «трио» - гобой, Ковалев, контрабас, - в котором особое внимание стоит обратить на виртуозную партию контрабаса (гобой свободно удваивает партию солиста):
Зачастую, в такие ансамбли включается и один из ударных инструментов (чаще всего, флексатон) .
В «Носе» Д. Шостакович впервые применяет длительное солирование ансамбля ударных инструментов . В музыке антракта, написанного для одних ударных, композитор использует и серии тембров, и различные типы ритмической полифонии (как имитационной, так и контрастной):
Интересно вклинивается «импровизационный» ансамбль в партитуру Второй симфонии (д. 30 и дальше):
Любопытно звучащие ансамблевые вычленения внутри оркестровой массы наблюдаются в Шестой симфонии - тембровая и регистровая дифференциация голосов в ц. 8 первой части, ансамбль флейты-пикколо и арфы на фоне отдельных фраз струнных в ц. 51 второй части, тонко найденная оркестровая краска в ц. 54, дуэт флейты и бас-кларнета на фоне аккомпанемента pizzicato первых скрипок в ц. 68.
Примеры прозрачной и привлекающей тембровой оригинальностью оркестровки встречаются и в более поздних сочинениях Д. Шостаковича (окончание марша с солирующим тромбоном в сопровождении двух арф в «Катерине Измайловой» - ц. 340; дуэт двух флейт с арфой в третьей части Пятой симфонии - ц. 79; ярко звучащее frullato четырёх флейт в Четвёртой симфонии ц. 88 - приём, нашедший продолжение в третьей части Восьмой симфонии - ц. 119; выразительное ансамблевое сопровождение трёх низких флейт и высокой арфы к солирующему бас-кларнету во второй части Седьмой симфонии - ц. 97; ансамбль бас-кларнета, двух валторн и скрипки соло в финале Восьмой симфонии - ц. 164 и т. д.), но в общей оркестровой массе эти моменты ансамблевости и тембровой расчленённости со временем встречаются всё реже и реже.
Особое место в творчестве Д. Шостаковича занимают его «Пять фрагментов» ор. 42 - сочинение, непосредственно предшествующее Четвёртой симфонии. Как и все прочие сочинения Д. Шостаковича, оно написано для большого состава оркестра , который использован здесь как сумма различных ансамблей, индивидуально выбранных для каждой из пяти частей. В первом фрагменте это Fl. picc., Oboe, С. ingl., Cl. picc., Fag., C.-fag., 2 Corni и Агра, во втором - Fl. picc., Fl., Oboe, Cl. picc., Cl., Fag., Tr-ba, 2 Corni, Tr-ne, Tuba, Arpa, C.-bassi, в третьем - Агра и Archi, в четвёртом - Ob., Cl., Fag., Corno и в самом конце - струнные, в пятом - Fl., Cl., Cl. basso, Tamburo, V-no solo, С.-b. solo.
Партитура решена по принципу ансамблевости и, несмотря на большой состав оркестра в целом, оркестровка является камерной .
Приведём два отрывка, достаточно красноречиво говорящих о манере оркестровки этого сочинения (10-й - 13-й такты первого фрагмента). В первом из них дуэт флейты-пикколо и гобоя идёт на фоне широко расположенной оркестровой педали дерева. Регистровый разрыв в аккорде лишь частично заполняется опускающимся вниз гобоем и вступлением валторн. Во втором отрывке всё гротескно обнажено: туба начинает своё соло с низких нот, труба вступает в противоположном движении с высокой ноты (острота вступления подчёркнута форшлагом дерева), тромбон выполняет функцию своеобразных «литавр». Д. Шостакович в обоих фрагментах использует, практически, одни духовые инструменты, что соответствует линеарной обнажённости его оркестрового письма. С имитацией звучания духового оркестра мы сталкиваемся только во втором фрагменте и, как всегда у Д. Шостаковича, эта имитация гротескна и пародийна. В первом фрагменте использование духовых инструментов чаще всего приближается к имитированию органной звучности - приём опять-таки достаточно типичный для Д. Шостаковича:
Пример 28а
Пример 28б
Последняя часть - гротескный вальс в манере «Маленьких сюит» И. Стравинского. Единственный ударный инструмент партитуры - малый барабан - впервые вступает здесь, сопровождая скрипку соло и заменяя собой аккомпанирующую группу (далее его аккомпанемент сменяется ostinato флажолетов, контрабаса):
В заключение немного остановимся на некоторых более тонких моментах взаимодействия оркестровки и формы у Д. Шостаковича. Прежде чем перейти к рассмотрению роли инструментовки в кодах, приведём пример взаимодействия структурных элементов формы в процессе её временного развёртывания, в котором тембр играет не меньшую роль, нежели относительная звуковысотность интонации.
Речь идёт о первой части Девятой симфонии. Побочная партия её вводится тромбоном ff на кварте f-b (первое вступление тромбона в партитуре) . Второе предложение темы, так же, как и первое, имеет два такта вступления, начинающегося той же неизменной квартой тромбона. В обоих предложениях кварта выполняет функцию моментальной тонической настройки. В звуковысотной неизменности квартового сигнала есть своя логика и, вместе с тем, - свой юмор. В третий раз кварта возвращает тональность при наступлении репризы побочной партии (ц. 10).
В разработке этот элемент побочной темы не развивается, а тромбоны используются весьма скромно и не тематически. Наконец, в ц. 18 начинается в главной тональности реприза, в которой основная тема значительно динамизирована. В первом её проведении ничего необыкновенного не происходит - обычная динамизация с развитием и тональным сдвигом, но перед появлением её второго элемента (ц. 19) мы слышим знакомую кварту тромбона, воспринимаемую теперь уже как сигнал к началу побочной партии.
Настройка дается уже не на B-dur, а на As-dur (сигнал звучит секундой ниже). Тем не менее побочная партия не вступает, и оркестр продолжает играть дальше, не обращая никакого внимания на начавшего играть «не вовремя» тромбониста. Однако тромбон упорствует в своём стремлении прервать музицирование на главной теме и перейти к побочной. Сигнал в неизменной звуковысотности (Es-As) повторяется ещё пять раз, прежде чем он, наконец, побеждает, и в ц. 21 поворачивает всю музыку в As-dur, в котором и звучит побочная партия. Побочная партия заканчивается, и в ц. 24 наступает кода (в Es-dur на главной партии), но тромбон ещё раз (уже piano и staccato) повторяет свою неизменную кварту. Упорное нежелание тромбона, вклинившегося в главную партию в репризе, считаться с тональностью, усиливает эффект появления побочной партии как долгожданного разрешения и, вместе с тем, выполняет опредёленные юмористические цели .
Из этого интересного примера видно, какую огромную структурную роль играет здесь тембр тромбона в сквозном развитии.
Говоря о взаимодействии формы и оркестровки у Д. Шостаковича, мы уже отмечали тенденцию к обнажению тембра в узловых моментах формы. Один из самых важных по смыслу разделов для Д. Шостаковича - это коды , и именно в них чаще всего встречается максимально интересная оркестровка (своего рода кульминация оркестрового начала ). Тенденция к дифференциации оркестра и к ориентации слухового восприятия на красоту и выразительность оркестровых комбинаций достаточно ясно наметилась уже в кодах двух первых частей Первой симфонии. О тонкости тембрового суммирования в коде второй части шла речь раньше (см. пример 23). Если сравнить инструментовку этой коды с предшествующей ей музыкой скерцо, то видно, как возрастает тембровый интерес в момент вступления коды. Уже само начало коды (ц. 22, Meno mosso) отмечено тремя ударами fff фортепиано, до сих пор выступавшего лишь с моторными solo. Помимо этого, тесное расположение широко расставленных аккордов вводит элемент регистровой незаполненное, характерный для всей коды. После напоминания в увеличении темы вступления (с тем же характерным, отставанием нижнего голоса и его ритмической нейтрализацией), регистровый разрыв раздвигается ещё больше - рояль звучит в самом низком регистре, а на тремолирующее е вторых скрипок накладывается высокая квинта флажолетов. В этой маленькой коде наблюдаются уже многие особенности оркестровки код Д. Шостаковичем - яркое введение нового тембра
Отголоски подобных празднеств слышатся в Третьей симфонии («Первомайской») или.в калейдоскопе карнавальных эпизодов финала Четвертой (после начального трагически развернутого траурного марша и до коды) и т. д. А к интонационному строю и ритму старых революционных и новых, молодежных песен Шостакович обращался неоднократно; среди наиболее ярких примеров — Одиннадцатая симфония, Десять поэм для смешанного хора a cappella, op. 88, знаменитая «Песня о встречном», либо кантата «Над Родиной нашей солнце сияет», ор. 90.
Было и другое ответвление праздничной стихии в его творчестве. Оно также
связано с впечатлениями от массовых зрелищ под открытым небом: на сей
раз речь идет о спортивных состязаниях. Шостакович, особенно до войны,
часто посещал их, был страстным любителем футбола. (Тщательно составлял
годовые сравнительные таблицы таких матчей, вступал в общение с известными
футболистами.) Не нашли ли, например, отражения подобные праздничные зрелища
в финале Шестой симфонии?
Азарт в крови Шостаковича, хотя сам он не участвовал ни в каких, даже
шахматных играх. «Азартное» —в учащенно пульсирующей динамике, в подстегивающих
движение нервных ритмах. Даже темп усвоенной им специфической манеры бытовой
речи, скандированной staccato marcaio, был ускоренным!
Это особая область многогранной музыки Шостаковича. Тут скрестились индивидуальные
черты его личности с чутко у лов. А ленным стремительным бегом времени,
что породило самобытный сплав художественных откровений. Не трудно "подметить,
что в характере такой музыки немалую -роль играет скачкообразный, также
стремительный ритм галопа. «Галопады» часто встречаются в произведениях
Шостаковича, причем и в театральных—в балетных партитурах или о опере
«Катерина Измайлова» (см. симфонический антракт между шестой и седьмой
картинами). Слышатся порой и отзвуки капкана Оффенбаха, музыку которого
он любил (например, в сцене в полицейском участке из названной оперы).
Театр влек к себе Шостаковича. Это началось еще в раннюю пору его деятельности,
когда повсеместно распространились небольшие мобильные агитационные труппы,
выступавшие на эстрадных площадках города с песнями, танцами и сатирическими
сценками на злобу дня. Участники таких ансамблей "именовались «синеблузниками»
согласно их традиционно-производственной одежде. В прямой зависимости
от них возникли театры рабочей молодежи. Шостакович охотно поставлял им
музыку,— привлекал дух бодрой веселости, царивший в этих ансамблях. (Позднее
он тепло вспоминал режиссера, руководителя ленинградского ТРАМа М. Соколовского.)
Но театр привлекал его даже не столько зрелищной своей стороной, сколько
напряженно развивающейся фабульной интригой, столкновением контрастных
коллизий, рельефным обозначением конфликтов и внезапным их разрешением.
Туго заверченная, напряженно развивающаяся «пружина действия» и ее неотвратимо
последовательное распрямление — основа симфонической драматургии Шостаковича,
ее глубоко запрятанный «театральный» остов.
(Однако в отмеченной калейдоскопичности действия Третьей и финале Шестой
симфонии, либо в «эпизодах нашествия»—разработке Седьмой или в третьей
части Восьмой, второй части Одиннадцатой, первой части Тринадцатой и т.
п.— наличествуют и элементы будто зримой театральности.)
Трудно сказать, в чем более значителен вклад Шостаковича в мировую музыкальную
культуру —в области музыкального театра или инструментальной музыки, симфонической
в первую очередь. Это трудно сказать и -в отношении Чайковского; где он
более велик —в опере, балете, симфонии? Но условия работы в театре ему
благоприятствовали, чего никак не скажешь про Шостаковича. Не перечесть,
сколько несвершенных оперных проектов он перебрал, но, к сожалению, неотступно
воздвигавшиеся перед ним преграды объективного и субъективного порядка
препятствовали их осуществлению. В музыке для концертных залов, тем более
бестекстовой, такие препятствия легче преодолевались. Вот почему автор
15 симфоний, 6 сольных концертов с оркестром, 15 струнных квартетов и
других инструментальных сочинений создал столь мало творений для музыкального
театра, среди которых такие шедевры, как оперы «Нос» и «Катерина Измайлова»
(и три балета ее должны быть забыты, ID том числе — возрожденный к новой
жизни «Золотой век»). Но ведь «все это — творения молодого Шостаковича.
Его более тесное сближение с театром произошло после творческой встречи
с Мейерхольдом: в начале 1928 года он даже недолго работал в театральном
коллективе гениального режиссера как пианист, через год написал музыку
к постановке пьесы «Клоп» Маяковского, а с мейерхольдовскими спектаклями
познакомился раньше — изоэможи-ю, с 1925 года. (Вряд ли в ноябре 1918
года он видел нашумевшую в Петрограде постановку «Мистерии-буфф» Маяковского
с сценографией К. Малевича; в помещении Большого зала консерватории прошло
три спектакля, но лишь через год юный Шостакович стал ее студентом.)
Мейерхольдовский метод сценического дробления пьесы на эпизоды, словно
«кадры» кино, явился новаторским. Так, >в постановке 1924 года «Леса»
Островского пьеса была показана
в 33 эпизодах (в дальнейшем их число сократилось до 26, затем до 16),
Так же на эпизоды была «раскадрована».классическая комедия Гоголя «Ревизор»
(1926, воздействие той постановки сказалось на сценической концепции оперы
«Нос»). Там же, у Мейерхольда, Шостакович: видел и другие спектакли —
в частности, «Д. Е.» (1924, премьера состоялась в Ленинграде), что расшифровывается
как «Даешь Европу»,—своего рода политическое обозрение, основанное на
причудливом смешении сюжетов двух романов: «Трест Д. Е.» Ильи Эренбурга
и «Тоннель» Бернгарда Келлермана К Далее — «Мандат» И. Эрдмана (1925)
и упомянутая пьеса Маяковского «Клоп».
Я выделил эти постановки потому, что они корреспондируют некоторым важным
сторожам творчества молодого Шостаковича. Было бы опрометчивым утверждать,
будто именно эти спектакли оказали прямое воздействие на художественные
искания композитора. Спектр таких воздействий шире — в него входят и рассказы
М. Зощенко, и ранние рассказы М. Булгакова, да, наконец, сама действительность
предуказала возникновение подобных художественных воплощений.
20-е годы преисполнены противоречий: старые представления о моральных
устоях и жизнеповедении, бытовом укладе — причем в своем наихудшем варианте—
вплотную столкнулись с новым мировосприятием. Прошли годы экономической
разрухи, вызванной гражданской войной и иностранной интервенцией, но вопреки
нужде, голоду, холоду, эпидемиям, эти годы окрылены революционным энтузиазмом
масс. В период же нэпа — в некоторых слоях общества — проявился дух безудержного
предпринимательства, бескрылого мещанства, сытого самодовольства.
Обличение социальной сути мещанства — оно воплощено
в образе Присыпкина из «Клопа» Маяковского стало одной
из характерных тем советского искусства того времени. С присущим ему задором
в эту струю обличения включился Шостакович,
Не легко, однако, провести в его музыке грань между собственно веселым,
эксцентричным и сатирическим, обличительным:
и тут и там общие средства выразительности- обращение ради
гротескного преломления к банальной стихии бытовой музыки. Но существен
угол такого преломления, Например, в оркестровой транскрипции популярной
неси и В. Юмепса «Таити-Тротт», а также во многих «галопадах», Шостакович
не преследовал обличительные цели. Иное отношение к банальному возникает
тогда, когда композитор стремится передать уродливое в жизни —и в нравственном
и в социальном плане: таков популярный пошлый мотив, на котором построены
вариации первой части Седьмой симфонии (использован мотив из оперетты
«Веселая вдова» Легара; отзвуки того же напева в четвертой части Концерта
для оркестр а Бартока); такова и вторая часть — Марш-скерцо Восьмой симфонии,
но здесь поводом для обличения служит не столько мотив, сколько самый
жанр помпезного воинственного марша; таково же трагедийно-гротесковое
преломление бытового музыкального материала в финале Фортепианного трио,
в скерцо Первого скрипичного концерта, в галопирующей теме соло трубы
в третьей части той же Восьмой и т. д.
Некогда я высказал соображение, что Шостакович часто применяет в своей
музыке «темы-оборотни»; в процессе развития их семантическое значение
кардинально трансформируется, приобретая противоположный смысл. В обращении
к банальному, чему отдал щедрую дань молодой Шостакович, за что — за разностилье
—его нередко упрекала музыкальная критика, не понявшая сущности этого
приема, он разрабатывал метод подобных перевоплощений. Пошлое, самодовольное,"
парадно-благополучное не предвещает, казалось бы, опасности, но в любой
момент может обернуться злом, жестокостью, грубым насилием. Никто из композиторов
XX века не сумел столь остро ощутить эту опасность и с такой выразительной
силой передать в музыке агрессивность злобных сил, как Шостакович. Их
натиску противостоит стойкость духа, и в этом контексте медлительно развертываемые,
эмоционально непосредственные лирические откровения наделяются высоким
нравственным смыслом.
Такая трактовка трагедийных концепций является существеннейшим художественным
завоеванием Шостаковича. На протяжении 20-х годов он настойчиво искал
пути к ее воплощению, изредка сбивался с избранного пути, но интуитивно
верно нащупывал его, и к рубежу 30-х годов вступил во всеоружии мастерства
во второй период творческой зрелости. Подспорьем ему служило знакомство
с новой современной музыкой.
Широка панорама новой музыки в Петрограде—Ленинграде
середины 20-х годов. Сюда приезжали с гастролями Бела Бар-ток, Пауль Хиндемит
(дважды), Да-ршос Мийо, Артюр Онег-гср, Альфредо Казелла; приезжал в 1927
году и Альбаи Берг на премьеру «Воццека»; в том же году ошеломляющим триумфом
ознаменовались гастроли Сергея Прокофьева. Здесь можно было услышать лучших
артистов Запада, дирижеров и солистов— Отто Клемперера, Бруно Вальтера,
Германа Абеидрота, Эрнеста Ансерме, Пьера Монтё, Артура Шнабеля, Эгоша
Петри, Иозефа Сигети и многих других. В театрах ставились оперы современных
зарубежных авторов: «Саломея» и «Кавалер роз» Штрауса, «Воццек» Берга,
«Прыжок через тень» и «Джонни наигрывает» Крженека, «Дальний звон» Шрекера
и т. д. Очень широко, циклами концертов, отмечались 100-летние годовщины
со дня смерти Бетховена (1927) и Шуберта (1928).
Если принять во внимание, что после кончины Скрябина (1915), в годы войны
и «военного коммунизма» (1918—1920) слушательский музыкальный опыт недостаточно
обогащался, яснее станет, сколь сильными явились эти новые художественные
впечатления. Разумеется, их воспринял и Шостакович, и тут проявив индивидуальную
самостоятельность, а кое в чем прозорливость.
Мне сейчас не восстановить в памяти его суждения о прослушанном, да и
суждения эти могли быть случайными. Поэтому кое-что выскажу гипотетически,
основываясь более на том, что сказалось на творчестве Шостаковича тех
лет, нежели на том, как он реагировал на услышанное.
Бесспорно, одно из сильнейших впечатлений связано с «Воццеком» и мимолетной
личной встречей с его автором1. Менее значительным, но все же действенным,
могло оказаться ознакомление с музыкой Хиндемита —привлекал ее бурный
динамичный характер. Барток, пожалуй, не произвел должного впечатления,
а интерес к Мийо скоро угас. (Позднее более привлек
Онеггер, особенно его Литургическая симфония.) Вообще же к французской
музыке XX века Шостакович равнодушен: Дебюсси представлялся слишком пряным.
Равель излишне нарядным. Не берусь утверждать, но вероятию Рихардом Штраусом
не очень интересовался, тогда как к Иоганну Штраусу относился с симпатией
и ценил его наравне с Оффенбахом, ибо справедливо полагал, что подлинное
искусство не знает разделения на «высокие» и «низкие» жанры.
Я запамятовал его реакцию на модные в те годы оперы Шрекера и Крженека.
Помню только, что Шостакович не разделял увлечения своих сверстников фокстротом
из «Прыжка через тень», разного рода пьесами в духе джаза, и п отличие,
например, от Стравинского или Мийо, приемы и техника джазовой практики
оказали очень малое на него влияние — настолько незначительное, что при
написании в НШ году Сюиты для джазового ансамбля его постигла неудача.
В главном фокусе внимания Шостаковича —Игорь Стравинский; так было
в 20-е годы, так продолжалось и позднее. Он высоко чтил гениального русского
мастера, по принимая, однако, импрессионистской «живописности» «Жар-птицы»,
«варваризмов» «Весны священной» и не понимай обращения позднего Стравинского
к двенадцатитоновой технике, которую Шостакович отвергал. (Известно также
его отрицательное отношение к Шёнбергу.)
Одно из первых сильных впечатлений — ярмарочные сцепы «Петрушки»; их воздействие
прослеживается па разных произведениях Шостаковича. Наибольший творческий
контакт возник у него с неоклассицистским Стравинским. Шостакович увлекался
музыкой «Пульчинеллы», «Маврой», Фортепианным концертом (после того, как
в 1932 году я его исполнил с оркестром в Ленинграде, Шостакович сказал
И. И. Соллертипскому, что, когда слушал Концерт, ему казалось, будто он,
Шостакович, сам сочинил его); Симфонию псалмов он переложил для фортепиано
в четыре руки и в конце 30-х годов часто проигрывал со своими учениками
в классных замятиях2; восхищался «Пер-сефоной», Мессой и т. д.
В воплощении гротеска в музыке Стравинский исключительно изобретателен. Это явилось откровением для Шостаковича и
в своем индивидуальном, остро-характерном преломлении сопутствовало дальнейшей
творческой его деятельности. В частности, 1большим успехом тогда пользовались
две сюиты Стравинского для малого состава оркестра. Вторую (1921) замыкает
галоп. Не отсюда ли возникли «галопады» в музыке Шостаковича?
Менее близок ему Прокофьев, хотя в юношеские годы очень им увлекался; отзвуки его музыки иногда возникали у раннего Шостаковича. Со временем, однако, это увлечение прошло. (Из прокофьевских опер он, вероятно, более всего ценил «Обручение в монастыре».) Сдержанность в отношении к столь крупному мастеру требует разъяснения. Дело не в трудно преодолимой пятнадцатилетней возрастной границе — существеннее различия в темпераменте, жизненном и культурном опыте, творческом методе. Например, у Прокофьева экспозиционность преобладает над разработочностыо, а для Шостаковича главное — развитие; отсюда для Прокофьева мерилом художественной ценности является мелодическая завершенность, целостность, характерность, тогда как Шостаковичу импульсом к развертыванию музыкальной мысли мог послужить краткий мотив, сам по себе не самоценный, по содержащий потенцию к развитию; иным было и различное понимание национальных истоков музыки; наконец, иные стороны жизни— более светлые, гармоничные у Прокофьева, «теневые», трагедийные, дисгармоничные у Шостаковича — отразились в их творчестве. Каждый создал свою традицию в советской музыке.